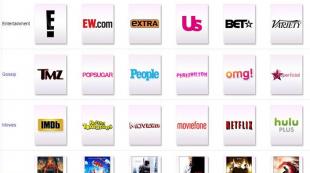Морфологический разбор имен существительных 6.
Первоначально для обозначения общности поэтов, входивших в пушкинский круг (Баратынский, Вяземский, Дельвиг, Языков), пользовались поэтичным и романтичным понятием «пушкинская плеяда». Однако первое, с чем сталкивался исследователь, приступавший к изучению творчества Баратынского, Вяземского, Дельвига и Языкова, это вопрос о том, существовала ли «плеяда» реально или это мифическое понятие, некая терминологическая фикция.
Термин «пушкинская плеяда», по мере изучения поэзии Пушкина, романтической эпохи и конкретных поэтов, стал считаться уязвимым, поскольку, во‑первых, возник по аналогии с наименованием французской поэтической группы «Плеяда» (Ронсар, Жодель, Дюбелле и др.), давая повод для неправомерных ассоциаций и неуместных сближений (Пушкина с Ронсаром). Однако французов не смущает, что название их «Плеяды» тоже появилось по аналогии с группой александрийских поэтов‑трагиков III в. до н. э. Другие сомнения, во‑вторых, имеют более основательный характер: термин «пушкинская плеяда» предполагает общие художественно‑эстетические позиции, тесно сближающие участников, а также отношения зависимости, подчинения по отношению к наиболее яркой «главной звезде».
Однако Баратынский, Вяземский, Дельвиг и Языков обладали – каждый – самобытным, резко индивидуальным, неповторимым голосом и не занимали подчиненного положения по отношению к верховному светилу русской поэзии. Известно, что некоторые из них не только не подражали Пушкину, но так или иначе отталкивались от него, спорили с ним, не соглашались, даже противопоставляли ему свое понимание природы поэзии и иных проблем. Это в первую очередь касается Баратынского и Языкова. Кроме того, поэтически приближаясь к Пушкину, каждый из поэтов ревностно оберегал свою поэтическую независимость от него. Следовательно, если принимать понятие «пушкинская плеяда», нужно отчетливо осознавать, что в этом созвездии, названном именем Пушкина, последний является самой крупной звездой, в то время как другие светила, входящие в «плеяду», хотя и не столь масштабны, но вполне самостоятельны, и каждое образует свой поэтический мир, автономный по отношению к пушкинскому. Их творчество сохраняет непреходящее художественное значение независимо от Пушкина или, как выразился Ю. Н. Тынянов, «вне Пушкина». Это мнение было поддержано другими литераторами (Вл. Орлов, Вс. Рождественский).
Дополнительным доводом для отказа от термина «плеяда» служит то, что в произведениях Пушкина это слово не употребляется ни в одном из его значений. Не зафиксировано оно и в сочинениях Н. М. Языкова. Это слово в качестве обозначения близкого Пушкину сообщества поэтов ввел Баратынский в открывающем сборник «Сумерки», но написанном в 1834 г. послании «Князю Петру Андреевичу Вяземскому»:
Звезда разрозненной плеяды!
Так из души моей стремлю
Я к вам заботливые взгляды,
Вам высшей благости молю,
От вас отвлечь судьбы суровой
Удары грозные хочу,
Хотя вам прозою почтовой
Лениво дань мою плачу.
«Звезда разрозненной плеяды» – намек на судьбу Вяземского, самого Баратынского и других поэтов сначала арзамасской, а затем пушкинско‑романтической ориентации, занимавших ведущее место в литературной жизни 1810‑1820‑х годов.
Наконец, как было замечено В. Д. Сквозниковым 4 , некоторое неудобство связано с числом поэтов, входящих в «плеяду»: поскольку плеяда – это семизвездие, то и поэтов должно быть ровно семь. Называют же обычно пять: Пушкина, Баратынского, Вяземского, Дельвига и Языкова.
По всем этим соображениям в настоящем учебнике авторы предпочитают понятие «поэты пушкинского круга» или «пушкинский круг поэтов» как менее романтичное и условное, но более скромное и точное. В нем не закреплена строгая зависимость каждого из поэтов от Пушкина, но и не отрицаются присущие всем поэтам общие эстетические позиции.
Пятерых «поэтов пушкинского круга» связывают литературное взаимопонимание по многим эстетическим вопросам, проблемам стратегии и тактики литературного движения. Их объединяют некоторые существенные черты мировосприятия и поэтики, а также ощущение единого пути в поэзии, единой направленности, которой они неуклонно следуют, сопровождаемые временными попутчиками. С общих позиций они вступают в полемику со своими противниками и подвергают резкой критике недоброжелателей.
«Поэты пушкинского круга» радуются успехам каждого, как своим собственным, обеспечивают взаимную поддержку друг другу. В глазах общества они предстают единомышленниками, их часто объединяют и их имена называют вместе. Они охотно обмениваются стихотворными посланиями, в которых подчас достаточно вскользь брошенного намека, чтобы внести полную ясность в какую‑либо знакомую им ситуацию. Их оценки художественных произведений даровитых авторов или мнения о заметных литературных явлениях часто сходны, и это позволяет тогдашней литературной публике воспринимать этих поэтов как вполне образовавшуюся и сложившуюся общность.
«Поэты пушкинского круга» чрезвычайно высоко ценят свою среду, видят друг в друге исключительную поэтическую одаренность, ставящую их в особое положение избранников, любимцев и баловней Музы, беспечных сыновей гармонии. Для Пушкина Дельвиг – настоящий гений («Навек от нас утекший гений»). Никак не менее. На Языкова устремлены глаза всех «поэтов пушкинского круга»: он адресат многих посланий, в которых чувствуется восхищение его самобытным, искрометным талантом. К нему восторженно обращаются с приветствиями Пушкин, Дельвиг, Баратынский, Вяземский. Их заслуженно комплиментарные послания находят столь же благодарный ответный отзыв у Языкова, полный похвал их бесценным талантам. В качестве примера уместно привести сонет Дельвига, посвященный Языкову. В нем как бы присутствуют все поэты круга, кроме Вяземского: Дельвиг – в качестве автора и героя стихотворения, Языков – в качестве адресата, к которому прямо обращается друг‑поэт, Пушкин и Баратынский – как «возвышенные певцы», в число которых Дельвиг включает и Языкова, и мысленно, конечно, самого себя.
Общность «поэтов пушкинского круга» простирается и на основы миросозерцания, мироотношения, на содержание и поэтику. Все «поэты пушкинского круга» исходили из идеала гармонии, который является принципом устроения мира. Поэтическое искусство – это искусство гармонии. Оно вносит в мир и в душу человека согласие. Поэзия – прибежище человека в минуты печали, скорби, несчастий, которое либо излечивает «больную» душу, либо становится знаком ее уврачевания. Поэтому гармония мыслится своего рода идеалом и принципом поэтического творчества, а поэзия – ее хранительницей. Такое убеждение свойственно всем «поэтам пушкинского круга». Что касается Пушкина, то более солнечного гения не знала русская поэзия. Читатели и знатоки‑пушкинисты многократно поражались той «всеразрешающей гармонии», на которой зиждется пушкинский поэтический мир. В полной мере мысль о гармонии отстаивал и Дельвиг. В значительной мере подобные соображения применимы и к поэзии Языкова. Не случайно современники восхищались здоровьем и естественностью его вдохновения, широтой и удалью его творческой личности, радостно‑мажорным звучанием стиха. Баратынский также исходил из презумпции идеала, из гармонии как первоосновы мира, из гармонически целебной мощи поэзии. К гармонии стиха, которая ему не всегда давалась, стремился и Вяземский 5 .
Культ гармонии, влюбленность в нее вовсе не означает того, что ее жрецы – люди благополучные, удачливые, застрахованные от всякого рода неустроенности, душевного надрыва и тоски. Им ведомы все печальные состояния духа в той мере, в какой идеал гармонии оказывается достижимым по причинам социального или же личного порядка. Ни один из «поэтов пушкинского круга» не склонен, поддавшись такому настроению, навсегда остаться «певцом своей печали». У них была иная, противоположная цель: вновь обрести душевное равновесие, снова ощутить радость бытия, опять почувствовать утраченную на время гармонию прекрасного и совершенного.
Поэзия в эпоху романтизма
1810–1830‑е годы – «золотой век» русской поэзии, достигшей в романтическую эпоху наиболее значительных художественных успехов. Это объясняется тем, что в период романтизма и рождавшегося реализма русская литература нашла не только национальное содержание, но и национальную литературную форму, осознав себя искусством слова. Этот период – начало творческой зрелости русской литературы. Ранее всего национальную форму обрела поэзия, и поэтому именно она выдвинулась в первую треть XIX в. на первое место среди других родов и жанров. Первые крупные эстетические удачи национальной литературы не только в лирике и в поэмах, что вполне естественно, но и в комедии («Горе от ума»), и в эпосе (басни Крылова) связаны со стихом и с усовершенствованием поэтического языка. Поэтому с полным правом можно сказать, что первая треть литературы XIX в. ознаменована подавляющим господством поэзии, в которой были высказаны самые глубокие для того времени художественные идеи.
Несколько причин способствовали мощному и буйному расцвету поэзии. Во‑первых, нация находилась на подъеме, на гребне своего исторического развития и переживала могучий патриотический порыв, связанный как с победами русского оружия, так и с ожиданиями коренных общественных перемен, о которых в начале века заговорило само правительство. Во‑вторых, в России создалась в среде военного и штатского дворянства прослойка свободных, европейски мыслящих людей, получивших прекрасное образование дома или за границей. В‑третьих, язык, благодаря усилиям русских писателей XVIII в., был уже обработан, а система стихосложения усвоена и внедрена в культуру, создалась почва для новаторских открытий, решительных реформ и смелых экспериментов.
Центральной фигурой литературного процесса в первое тридцатилетие был Пушкин. Считается, что «пушкинская эпоха» – это эпоха, сформировавшая Пушкина, и эпоха, прошедшая под знаком Пушкина. Ряд поэтов группировался вокруг него, сохраняя свой лирический почерк и интонацию, или подражали ему, формируя так называемую «пушкинскую плеяду», круг «поэтов пушкинской поры» и т.д. Из наиболее значительных поэтов того времени в него вошли Е. Баратынский, П. Вяземский, А. Дельвиг, Н. Языков. Какого‑либо формального объединения этих поэтов не существовало. Баратынский, Вяземский, Дельвиг и Языков обладали – каждый – самобытным, резко индивидуальным, неповторимым голосом и не занимали подчиненного положения по отношению к Пушкину. Известно, что некоторые из них не только не подражали Пушкину, но так или иначе отталкивались от него, спорили с ним, не соглашались, даже противопоставляли ему свое понимание природы поэзии и иных проблем. Это в первую очередь касается Баратынского и Языкова. Кроме того, поэтически приближаясь к Пушкину, каждый из поэтов ревностно оберегал свою поэтическую независимость от него.
Общность «поэтов пушкинского круга» простирается и на основы миросозерцания, мироотношения, на содержание и поэтику. Все «поэты пушкинского круга» исходили из идеала гармонии, который является принципом устроения мира. Поэтическое искусство – это искусство гармонии. Оно вносит в мир и в душу человека согласие. Поэзия – прибежище человека в минуты печали, скорби, несчастий, которое либо излечивает «больную» душу, либо становится знаком ее уврачевания. Поэтому гармония мыслится своего рода идеалом и принципом поэтического творчества, а поэзия – ее хранительницей.
Некоторые поэты оппонировали художественным принципам пушкинцев (любомудры). Но все они творили в одно с Пушкиным время, но их поэтические судьбы складывались по-разному. Некоторые из них, примкнув впоследствии к пушкинскому кругу писателей, творчески сложились независимо от Пушкина и вышли на литературную дорогу раньше него (Денис Давыдов).
Денис Васильевич Давыдов (1784–1839)
Из наиболее даровитых поэтов предпушкинского поколения, широко известных и в 1810‑1830‑х годах, первое место принадлежит герою‑партизану Отечественной войны 1812 г., поэту‑гусару Денису Давыдову. Он обладал несомненно оригинальным поэтическим лицом, придумав маску бесшабашно‑смелого, бесстрашного, отважного воина и одновременно лихого, веселого остроумного поэта‑рубаки, поэта‑гуляки.
Давыдов – русский поэт, мемуарист. Начав службу в Кавалергардском полку, он сближается с кружком независимо мыслящих и неформально ведущих себя офицеров: С.Н. Мариным, Ф.И. Толстым (Американцем), А.А. Шаховским, каждый из которых стремился к литературной деятельности. К этому времени относятся басни Давыдова, представляющие собой преддекабристский этап русского вольномыслия («Голова и ноги», «Быль или басня, как кто хочет назови», «Орлица, турухтан и тетерев»). Независимость поведения Давыдов пропагандировал в стихах, в которых воспевал бесшабашный быт гусарского кочевья, лихость и удаль бравых наездников: «Бурцову. Призывание на пунш», «Бурцову», «Гусарский пир». Гусарские стихи Давыдова быстро стали очень популярны, и он начал пропагандировать маску поэта-гусара как собственный бытовой образ («Графу П.А. Строганову», «В альбом»), подготавливая формирование в поэзии лирического героя.
Во время Отечественной войны 1812 года Давыдов организовал партизанский отряд и успешно действовал против французов в тылу врага. Слава Давыдова-партизана была признана обществом, но в официальных кругах ее или не замечали, или преследовали. В 1823 г. он выходит в отставку. Невозможность найти место для применения своих сил поставила Давыдова в ряды оппозиционеров, хотя он никогда не разделял тактику революционного действия декабристов, несмотря на близкие родственные и дружественные отношения с большинством из них.
После Отечественной войны круг литературных друзей Давыдова меняется. Он входит в литературное общество «Арзамас», так как его собственное творчество соответствовало литературной установке арзамасцев изображать внутренний мир частного человека. В лирике Давыдова окончательно формируется романтическое единство человеческой личности, образ поэта-гусара. Давыдову удалось создать выразительный и живописный образ «старого гусара», который окружен привычными приметами военного быта – у него есть боевой конь, он виртуозно владеет саблей, а на коротком отдыхе любит закурить трубку, перекинуться в карты и выпить «жестокого пунша». Несмотря на эти замашки, он вовсе не только «ёра, забияка», но и прямой, искренний, смелый человек, истинный патриот. Превыше всего для него воинский долг, офицерская честь и презрение ко всяким светским условностям, лести, чинопочитанию. Давыдов создал живой и необычный лирический образ, к которому даже «подстраивал» свою реальную биографию.
Между боями, на биваке, он предавался вольному разгулу среди таких же доблестных друзей, готовых на любой подвиг. Давыдов не терпел «служак», карьеристов, муштру, всякую казенщину. Вот как он обращался к своему другу гусару Бурцову, приглашая отведать знаменитый арак (крепкий напиток): «Подавай лохань златую, Где веселие живет! Наливай обширной чаши В шуме радостных речей, Как пивали предки наши Среди копий и мечей».
Давыдов гордился тем, что его поэзия не похожа ни на какую другую, что она родилась в походах, в боях, в досугах между битвами: «Пусть загремят войны перуны, Я в этой песне виртуоз!»
Правда, вопреки словам Давыдова о том, что его стихотворения писались «при бивачных огнях», во время коротких отдыхов, на самом деле они создавались в тихой, уединенной обстановке, в периоды мирной жизни, в часы интеллектуального общения.
Своими стихотворениями Давыдов сказал новое слово в русской батальной лирике, отличавшейся известной парадностью. Самой войны в стихотворениях Давыдова нет, но есть боевой дух офицера, широта души, распахнутой навстречу товарищам. Для выражения буйства чувств своевольной натуры поэта был потребен энергичный, лихо закрученный и хлесткий стих, часто завершавшийся острым афоризмом. Современники замечали, что и в жизни Давыдов был необычайно остроумен, словоохотлив, говорлив.
Герой Давыдова энергичен, страстен, чувственен, ревнив, ему знакомо чувство мести. Новаторство Давыдова особенно заметно не только в «гусарской» лирике, но и в любовной.
Но ты вошла – и дрожь любви,
И смерть, и жизнь, и бешенство желанья
Бегут по вспыхнувшей крови,
И разрывается дыханье!
В любовной лирике 1834–1836 гг. происходит смена рисунка образа лирического героя. Непременные атрибуты гусарского облика отступают, внутренний мир героя изображается уже без внешних аксессуаров: «Не пробуждай, не пробуждай...», «Тебе легко – ты весела...», «Я вас люблю так, как любить вас должно...», «В былые времена она меня любила...», «Унеслись невозвратимые...», «Жестокий друг, за что мученье?..»
Поэтическое творчество Давыдова закончилось «Современной песней» (1836) – жесткой и не во всем справедливой сатирой на безгероическое общество 1830-х гг., в представителях которого поэт не видел дорогих его сердцу черт гусарства. Центральное же место в его поздней литературной и общественной деятельности занимают мемуары. Давыдов пишет «мемуарные» стихи к пятнадцатилетию завершения наполеоновских войн – «Бородинское поле». Крупнейшими произведениями являются «Очерк жизни Дениса Васильевича Давыдова» – опыт художественного моделирования личности в автобиографической прозе – и мемуары, богатые фактическим материалом и содержащие яркие зарисовки участников войны и ее отдельных эпизодов.
Пушкин, по собственному признанию, учился у Давыдова, «приноравливался к его слогу» и подражал ему в «кручении стиха». По словам Пушкина, Давыдов дал ему «почувствовать еще в лицее возможность быть оригинальным». Но в отличие от Давыдова Пушкин в обыденной жизни не носил литературной маски. Он оставался самим собой, а Давыдов, создав свою литературную маску лихого рубаки, гусара‑поэта, стал примерять ее к жизни и сросся с ней. В бытовом поведении он стал подражать своему лирическому герою и отождествлял себя с ним.
Батюшков Константин Николаевич (1787-1855), русский поэт . Семи лет от роду он потерял мать, которая страдала душевной болезнью, по наследству перешедшей к Батюшкову и его старшей сестре Александре. Он близко сошелся со своим дядей М. Н. Муравьевым и стал поклонником Тибулла и Горация, которым он подражал в первых своих произведениях. Батюшков участвовал в антинаполеоновских войнах 1807, 1808, 1812-1815 гг. В 1809 г. он сблизился с В. Л. Пушкиным, В. А. Жуковским, П. А. Вяземским и Н. М. Карамзиным. В 1812 г. поступил на службу в Публичную библиотеку. Не забывая своих московских друзей, Б. сделал новые знакомства в Петербурге и сблизился с И. И. Дмитриевым, А. И. Тургеневым, Д. Н. Блудовым и Д. В. Дашковым. В 1818 г. Батюшков был определен на службу в неаполитанскую русскую миссию. Поездка в Италию была его любимой мечтой, но там он почувствовал скуку, хандру и тоску. К 1821 г. ипохондрия приняла такие размеры, что он оставил службу. В 1822 г. расстройство умственных способностей выразилось вполне определенно, и с тех пор Батюшков в продолжение 34 лет мучился, не приходя почти никогда в сознание.
Константин Николаевич Батюшков вошел в историю русской литературы XIX в. как один из зачинателей романтизма. В основу его лирики легла «легкая поэзия», которая в его представлении ассоциировалась с развитием малых жанровых форм, выдвинутых романтизмом на авансцену русской поэзии, и совершенствованием литературного языка. В «Речи о влиянии легкой поэзии на язык» (1816) он так подытожил свои размышления: «В легком роде поэзии читатель требует возможного совершенства, чистоты выражения, стройности в слоге, гибкости; он требует истины в чувствах и сохранения строжайшего приличия во всех отношениях. Красивость в слоге здесь нужна необходимо и ничем замениться не может. Она есть тайна, известная одному дарованию и особенно постоянному напряжению внимания к одному предмету: ибо поэзия и в малых родах есть искусство трудное и требующее всей жизни и всех усилий душевных; надобно родиться для поэзии; этого мало: родясь, надобно сделать поэтом».
Литературное наследство Батюшкова распределяется на три части: стихотворения, прозаические статьи и письма. С юных лет вошёл в литературные круги Санкт-Петербурга. В стихотворной сатире «Видение на берегах Леты» (1809, широко распространялась в списках, опубл. в 1841) выступил остроумным противником эпигонов классицизма, литературных «староверов» (впервые ввёл в обиход слово «славянофил») и сторонником новых эстетических и языковых тенденций, проповедуемых Н. М. Карамзиным и литературным кружком «Арзамас». Патриотическое воодушевление выразил в послании «К Дашкову» (1813). В историю отечественной словесности Батюшков вошёл прежде всего как ведущий представитель так называемой «лёгкой поэзии» (И. Ф. Богданович, Д. В. Давыдов, юный А. С. Пушкин) – направления, восходящего к традициям анакреонтической поэзии, воспевающей радости земной жизни, дружбу, любовь и внутреннюю свободу (послание «Мои пенаты», 1811-12, опубл. в 1814, которое, по словам А. С. Пушкина, «дышит каким-то упоеньем роскоши, юности и наслаждения – слог так и трепещет, так и льётся – гармония очаровательна»; стихотворение «Вакханка», опубл. в 1817; и др.). Свидетельства духовного кризиса поэта – элегии, проникнутые мотивами неразделённой любви, грустью раннего разочарования («Разлука», 1812-13; «К другу», «Мой гений», обе – 1815), порою доходящей до высокого трагизма («Умирающий Тасс», 1817, посвящённая печальной судьбе итальянского поэта 16 в. Т. Тассо; «Изречение Мельхиседека», 1821). Переводил античных и итальянских поэтов, яркого представителя французской «лёгкой поэзии» Э. Парни. Писал очерки и статьи.
Петр Андреевич Вяземский (1792–1878)
Вяземский Петр Андреевич, князь, русский поэт, литературный критик, мемуарист. Старшая единокровная сестра его была замужем за Н.М. Карамзиным, поэтому молодой поэт рос в литературной окружении К.Н. Батюшкова, Д.В. Давыдова. Против литературных «архаистов» Вяземский выступал в критических статьях и эпиграммах и сатирах, создав маску «замысловатого остряка» (А.С. Пушкин). Он участвует в литературной полемике вокруг баллад В.А. Жуковского («Поэтический венок Шутовского», «Ответ на послание Василию Львовичу Пушкину» и др.), поэм А.С. Пушкина (критические статьи). Критические статьи становились для Вяземского полем пропаганды новых эстетических идей (в частности, он активно разрабатывал понятия романтизма и народности в литературе).
В 1819–1825 гг. Вяземский выступал за конституцию («Петербург», «Море») и против крепостного права («Сибирякову»), но был чужд революционных методов борьбы. Он считал человеческую душу необъяснимой; человек – «на свете нравственном загадка» («Толстому»), но изображение внутреннего мира человека строил аналитически. В своих сатирических куплетах-обозрениях Вяземский выразил протест против косной жизни России: «Когда? Когда?», «Русский бог» и др. Литературная полемика часто являлась формой политической борьбы: «Послание к М.Т. Каченовскому», «К усопшим льнет, как червь, Фиглярин неотвязный...» и др.
Вяземский понимал себя поэтом современности, поэтом сегодняшнего дня. Но если в раннем творчестве Вяземский находился в согласии со своим временем, то после 1837 г. он осмысляет современность негативно и за норму принимает прошедшее. Поэтому собственную судьбу Вяземский оценивает как трагедию человека, не способного и не желающего жить в соответствии с нормами века. Отсюда так важны мотивы памяти и напрасного ожидания смерти («Родительский дом», «Смерть жатву жизни косит...», «Уж не за мной ли дело стало?»). Вяземский создает особый жанр «поминок» («Памяти живописца Орловского», «Поминки», «На память»). Вяземский был близок с А.С. Пушкиным, посвящал ему стихи при жизни («1828 год», «Станция») и после смерти («Ты светлая звезда», «Наталии Николаевне Пушкиной», «Осень»). С этой проблематикой связана его мемуарная деятельность.
Важнейшее качество Вяземского‑поэта – острое и точное чувство современности. Вяземский чутко улавливал те жанровые, стилистические, содержательные изменения, которые намечались или уже происходили в литературе. Другое его свойство – энциклопедизм. Вяземский был необычайно образованным человеком. Третья особенность Вяземского – рассудочность, склонность к теоретизированию. Он был крупным теоретиком русского романтизма. Но рассудительность в поэзии придавала сочинениям Вяземского некоторую сухость и приглушала эмоциональные романтические порывы.
Поэтическая культура, взрастившая Вяземского, была однородна с поэтической культурой Пушкина. Вяземский ощущал себя наследником XVIII в., поклонником Вольтера и других французских философов. Он впитал с детства любовь к просвещению, к разуму, либеральные взгляды, тяготение к полезной государственной и гражданской деятельности, к традиционным поэтическим формам – свободолюбивой оде, меланхолической элегии, дружескому посланию, притчам, басням, эпиграмматическому стилю, сатире и дидактике.
Как и другие молодые поэты, Вяземский быстро усвоил поэтические открытия Жуковского и Батюшкова и проникся «идеей» домашнего счастья. Во множестве стихотворений он развивал мысль о естественном равенстве, о превосходстве духовной близости над чопорной родовитостью, утверждал идеал личной независимости, союза ума и веселья. Предпочтение личных чувств официальным стало темой многих стихотворений. В этом не было равнодушия к гражданскому поприщу, не было стремления к замкнутости или к уходу от жизни. Вяземский хотел сделать свою жизнь насыщенной и содержательной. Его частный мир был гораздо нравственнее пустого топтанья в светских гостиных. У себя дома он чувствовал себя внутренне свободным: «В гостиной я невольник, В углу своем себе я господин…» Вяземский понимает, что уединение – вынужденная, но отнюдь не самая удобная и достойная образованного и вольнолюбивого поэта позиция. По натуре Вяземский – боец, но обществу чуждо его свободолюбие.
Став сторонником карамзинской реформы русского литературного языка, а затем и романтизма, Вяземский вскоре выступил поэтом‑романтиком. В романтизме Вяземский увидел опору своим поискам национального своеобразия и стремлениям постичь дух народа. Он понял романтизм как идею освобождения личности от «цепей», как низложение «правил» в искусстве и как творчество нескованных форм. Проникнутый этими настроениями, он пишет гражданское стихотворение «Негодование», в котором обличает общественные условия, отторгнувшие поэта от общественной деятельности; элегию «Уныние» , в которой славит «уныние», потому что оно врачует его душу, сближает с полезным размышлением, дает насладиться плодами поэзии. Т.о., жанр психологической и медитативной элегии под пером Вяземского наполняется либо гражданским, либо национально‑патриотическим содержанием.
В романтическом мироощущении Вяземский открыл для себя источник новых творческих импульсов, в особенности в поисках национального содержания. Вяземского влечет тайная связь земного и идеального миров, он погружается в натурфилософскую проблематику (Стих-е «Ты светлая звезда»: параллельны два ряда образов – «таинственного мира» и «земной тесноты», мечты и существенности, жизни и смерти, между которыми устанавливается невидимая внутренняя соприкосновенность).
В конце 1820‑х – в начале 1830‑х годов Вяземский – все еще признанный литератор, стоящий на передовых позициях. Он активно участвует в литературной жизни, включаясь в полемику с Булгариным и Гречем. Он сотрудничает в «Литературной газете» Дельвига и Пушкина, а затем в пушкинском «Современнике», которые приобрели в Вяземском исключительно ценного автора, обладавшего хлестким и умелым пером. Журналистская хватка сказалась и в поэзии Вяземского, щедро насыщенной злободневными политическими и литературными спорами. Чувство современности было развито у Вяземского необычайно. Однажды он признался: «Я – термометр: каждая суровость воздуха действует на меня непосредственно и скоропостижно». Поэтому и журнальная деятельность была в его вкусе, о чем он догадывался сам и о чем ему не раз говорили друзья. «Пушкин и Мицкевич, – писал Вяземский, – уверяли, что я рожден памфлетистом… Я стоял на боевой стезе, стреляя из всех орудий, партизанил, наездничал…».
При жизни Вяземского, не считая мелких брошюр, вышел всего один сборник его стихотворений («В дороге и дома». М., 1862).
Антон Антонович Дельвиг (1798–1831)
Дельвиг Антон Антонович, поэт, журналист. Обучаясь в Лицее, Дельвиг сошелся с А.С. Пушкиным, дружба с которым определила его литературную позицию и эстетическую позицию. Д пропагандировал в своем творчестве образ поэта – «ленивца молодого» («Сегодня я с вами пирую, друзья…», «Крылову»). В 1820-е гг. он активно участвует в литературной борьбе, издавая с 1825 г. альманах «Северные цветы», а с 1830 г. «Литературную газету». Далекий от политического радикализма, Дельвиг не боялся выражать свои мнения и был одним из немногих, кто присутствовал при казни декабристов. Умер во время эпидемии холеры. В память Дельвига Пушкин издал последний выпуск альманаха «Северные цветы» (1832).
В отличие от Вяземского, лицейский и послелицейский товарищ Пушкина Антон Антонович Дельвиг облек свой романтизм в классицистические жанры. Он стилизовал античные, древнегреческие и древнеримские стихотворные формы и размеры и воссоздавал в своей лирике условный мир древности, где царствуют гармония и красота. Для своих античных зарисовок Дельвиг избрал жанр идиллий и антологических стихотворений. В этих жанрах Дельвигу открывался исторически и культурно‑определенный тип чувства, мышления и поведения человека античности, который являет собой образец гармонии тела и духа, физического и духовного («Купальницы», «Друзья»). «Античный» тип человека Дельвиг соотносил с патриархальностью, наивностью древнего «естественного» человека, каким его видел и понимал Руссо. Вместе с тем эти черты – наивность, патриархальность – в идиллиях и антологических стихотворениях Дельвига заметно эстетизированы. Герои Дельвига не мыслят свою жизнь без искусства, которое выступает как органическая сторона их существа, как стихийно проявляющаяся сфера их деятельности («Изобретение ваяния»).
Действие идиллий Дельвига развертывается обычно под сенью деревьев, в прохладной тишине, у сверкающего источника. Поэт придает картинам природы яркие краски, пластичность и живописность форм. Состояние природы всегда умиротворенное, и это подчеркивает гармонию вне и внутри человека.
Герои идиллий и антологий Дельвига – цельные существа, никогда не изменяющие своим чувствам. В одном из лучших стихотворений поэта – «Идиллия» (Некогда Титир и Зоя под тенью двух юных платанов…) – восхищенно рассказывается о любви юноши и девушки, сохраненной ими навеки. В наивной и чистой пластической зарисовке поэт сумел передать благородство и возвышенность нежного и глубокого чувства. И природа, и боги сочувствуют влюбленным, оберегая и после их смерти неугасимое пламя любви. Герои Дельвига не рассуждают о своих чувствах – они отдаются их власти, и это приносит им радость.
Художественные приемы Дельвига не изменялись на протяжении всей его деятельности. Идеалом его является «мирная жизнь» «естественного человека». Этот натуральный образ жизни по циклическим законам, близкий природе изображается им в двух жанрах: «русская песня» и идиллия, воссоздающей образ «золотого века» Древней Греции. Дельвиг создал 12 стихотворений с названием «Русская песня», многие из них стали популярными романсами: «Соловей мой, соловей…» (А.А. Алябьев), «Не осенний частый дождичек…» (М.И. Глинка) и др. Сходную роль выполняли «античные» идиллии: «Цефиз», «Купальницы», «Конец золотого века», «Изобретение ваяния». В новаторской по содержанию «русской идиллии» «Отставной солдат» Дельвиг изобразил современную крестьянскую жизнь как современный «золотой век».
Нормой жизни современного человека становится линейное время: «Романс» («Вчера вакхических друзей…»). Дельвиг описывает романтического героя, используя сюжеты, восходящие к жанру баллады («Луна», «Сон»). Характерными чертами этого героя являются «разочарование» («Элегия» («Когда, душа, просилась ты…»), «Разочарование») и преждевременная смерть как знак особой судьбы избранного человека («Романс» («Сегодня я с вами пирую, друзья…»), «На смерть ***»).
Единственный прижизненный сборник стихотворений поэта – «Стихотворения барона Дельвига». СПб., 1829.
Николай Михайлович Языков (1803–1847)
Совсем иной по содержанию и по тону была поэзия Николая Михайловича Языкова, который вошел в литературу как поэт‑студент. Это амплуа создало ему весьма своеобразную репутацию. Студент – почти недавний ребенок, еще сохраняющий некоторые привилегии детского возраста. Он может позволить себе «шалости» и всякого рода рискованные выходки, вызывая к себе при этом сочувственно‑снисходительное отношение окружающих. Пушкин восклицал, обращаясь к своему младшему другу: «Как ты шалишь и как ты мил!» В поэзии Языкова рождался своего рода эффект инфантилизма, милой незрелости. Полумнимая незрелость языковской музы, дает право крайне свободного обращения с писаными и неписаными законами поэтического творчества. Поэт смело нарушает их. Читая стихи Языкова, приходится нередко сомневаться в правомерности некоторых предлагаемых им самим жанровых обозначений, так они непохожи на данные им названия «элегия», «песня», «гимн». Они кажутся произвольными, причем впечатляет легкость, с которой Языков их именует, относя к тому или иному жанру.
Языков учился в разных учебных заведениях, пока в 1822 г. не уехал в Дерпт, где поступил на философский факультет университета и провел в нем семь лет. Экзамена за университет он не сдавал и покинул его «свободно‑бездипломным». В творчестве Языкова отчетливо выделяются два периода – 1820‑х – начало 1830‑х годов (примерно до 1833) и вторая половина 1830‑х – 1846 годы. Лучшие произведения поэта созданы в первый период. (При жизни Н. М. Языков выпустил три сборника стихотворений).
Как и другие поэты пушкинской эпохи, Языков сформировался в преддверии восстания декабристов, в период подъема общественного движения. Это наложило отпечаток на его лирику. Радостное чувство свободы, охватившее современников поэта и его самого, непосредственно повлияло на строй чувств Языкова. С декабристами Языкова сближала несомненная оппозиционность. Однако в отличие от декабристов у Языкова не было каких‑либо прочных и продуманных политических убеждений. Его вольнолюбие носило чисто эмоциональный и стихийный характер, выражаясь в протесте против аракчеевщины, всяких форм угнетения, сковывавших духовную свободу. Словом, Языкову не были чужды гражданские симпатии, но главное – простор души, простор чувств и мыслей, ощущение абсолютной раскованности.
Главные достижения Языкова связаны со студенческими песнями (циклы 1823 и 1829 годов), с элегиями и посланиями. В них и возникает тот образ мыслящего студента, который предпочитает свободу чувств и вольное поведение принятым в обществе официальным нормам морали, отдающим казенщиной. Разгульное молодечество, кипение юных сил, «студентский» задор, смелая шутка, избыток и буйство чувств – все это было, конечно, открытым вызовом обществу и господствовавшим в нем условным правилам.
В 1820‑е годы Языков – уже сложившийся поэт с буйным темпераментом. Его стих – хмельной, тональность поэзии – пиршественная. Он демонстрирует в поэзии избыток сил, удальство, небывалый разгул вакхических и сладострастных песен. Весь этот комплекс представлений не совсем адекватен реальной личности Языкова: под маской лихого бесшабашного гуляки скрывался человек с чертами застенчивого увальня, провинциального «дикаря», не слишком удачливого в делах любви и не столь склонного к кутежам, как об этом можно подумать, читая стихи поэта. Однако созданный Языковым образ лирического героя оказался колоритным, убедительным, художественно достоверным. Современники заметили, что в литературу пришла необычная, «студентская» муза. Не все удавалось молодому Языкову: порой он писал бесцветно и вяло, не гнушался штампами.
Если попытаться определить основной пафос поэзии Языкова, то это пафос романтической свободы личности. «Студент» Языков испытывает подлинный восторг перед богатством жизни, перед собственными способностями и возможностями. Отсюда так естественны в его речи торжественные слова, восклицательные интонации, громкие призывы. Вольные намеки постепенно приобретают все большую остроту, поясняющую истинный смысл бурсацкого разгула. Оказывается, он противник «светских забот» и внутренне независим. Ему присущи рыцарские чувства – честь, благородство. Он жаждет славы, но исключает лесть («Чинов мы ищем не ползком!»), ему свойственны искреннее вольнолюбие, гражданская доблесть («Сердца – на жертвенник свободы!»), равноправие, отвращение к тирании («Наш ум – не раб чужих умов»), презрение к атрибутам царской власти и к самому ее принципу («Наш Август смотрит сентябрем – Нам до него какое дело?»).
Человек в лирике Языкова представал сам собой, каков он есть по своей природе, без чинов и званий, отличий и титулов, в целостном единстве мыслей и чувств. Ему были доступны и переживания любви, природы, искусства и высокие гражданские чувства.
Постепенно в поэтическом мироощущении Языкова наметилась оппозиция вечных, непреходящих, нетленных ценностей и временных, «мимопроходящих», сиюминутных. Бывший дерптский бурш начинает славить белокаменную столицу, которая необыкновенно мила ему своей стариной. Семисотлетняя Москва с золотыми крестами на соборах, храмах и церквях, с твердынями башен и стен, понятая как сердце России и как величавый символ народного бессмертия, становится для Языкова истинным источником бессмертной жизни и неиссякаемого вдохновения. Такое восприятие Москвы и России подготовило переход Языкова, «западника» по студенческому воспитанию, прошедшего нерусскую школу жизни и получившего немецкое образование, к славянофильству.
В последние годы творчества в лирике Языкова снова встречаются подлинные лирические шедевры («Буря», «Морское купанье» и др.). В них особенно отчетливо видна возросшая крепость его стиля, их отличают продуманный лаконизм композиции, гармоническая стройность и чистота языка. Языков сохраняет стремительность лирической речи, щедрость живописи и энергичную динамичность.
Языков, по словам Белинского, «много способствовал расторжению пуританских оков, лежавших на языке и фразеологии». Он придал стихотворному языку крепость, мужественность, силу, овладел стихотворным периодом. В его лирике ярко запечатлелась вольная душа русского человека, жаждавшая простора, цельная, смелая, удалая и готовая развернуться во всю свою ширь.
Поэты‑любомудры
«Поэты пушкинского круга» были неформальным объединением поэтов, сложившимся в 1820‑х годах. Более тесным образованием (1823) был московский кружок любителей мудрости – любомудров. В него вошли поэт Д. Веневитинов, прозаик В. Одоевский, критик И. Киреевский, литераторы Н. Рожалин, А. Кошелев; к ним примкнули историк М. П. Погодин, поэт и филолог С. Шевырев. И хотя кружок распался в 1825 г., духовное единство, связывающее ее членов, продолжало сохраняться. Впоследствии бывшие участники общества любомудрия основали журнал «Московский вестник». На короткое время с любомудрами сблизился Пушкин.
Поэзия любомудров стала еще одним связующим звеном между поэзией 1820‑х и 1830‑х годов. Любомудры ставили своей задачей изучение немецкой романтической философии, в которой увидели программу жизни и программу литературы. Она легла в основу поэзии любомудров, которые заявили, что русская поэзия, не исключая и Пушкина, страдает недостатком мысли и ее надлежит насытить философским содержанием. Отсюда проистекала идея противопоставить непосредственно чувственной и легко льющейся поэзии Пушкина и находящейся под его несомненным влиянием русской поэзии вообще наполненную философским смыслом поэзию, пусть несколько затрудненную в выражении и восприятии. Любомудры хотели придать русской поэзии философское направление, в значительной мере шеллингианское, предполагавшее изложение романтической философии на поэтическом языке. Но любомудры не предполагали просто зарифмовывать близкие им философские идеи – они намеревались перенести эти идеи в иную, лирическую, стихию.
Согласно представлениям любомудров, в мире не существует идиллических отношений, и гармония между человеком и природой достигается преодолением противоречий. В ходе трудного и мучительного, но вместе с тем вдохновенного познания природа постигает себя в своем высшем и самом совершенном духовном творении – поэте, а любому человеку благодаря поэту открывается наслаждение вещими истинами.
Димитрий Владимирович Веневитинов (1805–1827)
Из поэтов‑любомудров несомненным поэтическим талантом был наделен Веневитинов. Его неповторимый литературный мир сложился примерно к 1825 г. Веневитинов прочно усвоил элегический словарь и принципы элегического стиля Жуковского – Пушкина. Его поэзия развивалась в духе идей русского и немецкого романтизма. Веневитинов использовал в своей лирике достаточно традиционный элегический словарь, который, однако, им преображался: в него вносилось не чувственно‑элегическое, а философское содержание. Типично элегические слова обретали новый, философский смысл (стих-е «К любителю музыки»).
Веневитинов пытается соединить непосредственные ощущения с ясностью мысли, вдохнуть в эти ощущения особый смысл и путем столкновения создать выразительную картину, полную драматизма. На этом фундаменте вырастает веневитиновское представление о художнике‑гении, о его роли в мире, о его небесном призвании, божественном избранничестве и трудном, незавидном положении в обществе (стих-я «Поэт» («Тебе знаком ли сын богов…»), «Люби питомца вдохновенья…», перевод фрагмента из «Фауста» Гете, элегии «Я чувствую во мне горит…», «Поэт и друг»).
По мысли Веневитинова, поэзия – познание тайн бытия, и лишь она противостоит прозе и бездуховности окружающей жизни. Трагизм бытия отступает перед мощью и красотой поэтического слова. Поэт провидит будущую гармонию, утверждает согласие между человеком и природой. Романтическая тема поэта‑пророка, сохраняя в лирике Веневитинова личный и общественный смысл, переключена в общефилософский план и обращена к читателю новыми гранями: «Тебе знаком ли сын богов, Любимец муз и вдохновенья? Узнал ли б меж земных сынов Ты речь его, его движенья? Не вспыльчив он, и строгий ум Не блещет в шумном разговоре, Но ясный луч высоких дум Невольно светит в ясном взоре» .
Речь в стихотворении идет об идеальном лице, так как поэт для любомудров – высшее выражение человека духовного. Поэзия, по мнению любомудров, та же философия, но в пластических образах и гармонических звуках. В таком контексте сочетание «высокие думы» воспринимается не расхожим поэтическим клише, а заключающим в себе определенные философские идеи. Слова «строгий ум» означают последовательность, логичность и точность мысли, привычку к философским штудиям. Перед читателем встает образ идеального поэта‑философа, чуждого светской суеты, погруженного в глубокие и серьезные размышления. Он противопоставлен «земным сынам» не потому, что презирает их, – он поднялся на такую духовную высоту, которая еще остается недосягаемой для обыкновенных людей.
С. П. Шевырев (1806–1864)
В русле художественных поисков любомудров развивалась и поэзия С. Шевырева. Среди наиболее известных и обративших на себя внимание его стихотворений были «Я есмь» , «Мысль», «Цыганская пляска», «Петроград», «Стансы» («Когда безмолвствуешь, природа…»), «Стансы» («Стен городских затворник своенравный…»), «К Италии» и другие. Шевырев варьирует в своей лирике излюбленные любомудрами темы об избранничестве поэта, его особой миссии, о единстве природной жизни и души человека. По мысли Шевырева, природа не может выразить себя словесно, а обыкновенный человек не может передать обычным языком ее тайны. Познание и сокровенное слово о ней доступны только поэту‑жрецу. Его речь наполнена восторгом, который сопутствует познанию и проповеди. В отличие от Веневитинова, опиравшегося на элегический словарь романтической поэзии, Шевырев обращается к поэтическому наследию XVIII в., воскрешая стилистические традиции духовных од, широко используя славянизмы и архаизмы, сообщая поэтической речи торжественное величие и ораторские интонации. Он преклоняется перед мощью и нетленностью человеческой мысли.
А. С. Хомяков (1804–1860)
Первоначально он развивал традиционные для любомудров темы: поэтическое вдохновение, единство человека и природы, любовь и дружба. Поэт в лирике Хомякова – соединительное звено между мирозданием и природой. Его «божественный» жребий предуказан свыше: дать «голос стройный» земле, «творенью мертвому язык». Поэт у Хомякова мечтает слиться с природой («Желание»), раствориться в ней, но так, чтобы стать «звездой». В известной мере здесь Хомяков смыкается с Тютчевым (ср. тютчевский мотив: «Душа хотела б быть звездой.»), хотя его небольшое дарование несравнимо с гениальным даром Тютчева. В лирике Хомяков полон возвышенных порывов и устремлений. Эти его мечты и желания сопровождаются традиционными размышлениями. Когда же к поэту не приходит «божественный глагол», наступает «час страданья»: «…звуков нет в устах поэта Молчит окованный язык.<…> И луч божественного света В его виденья не проник. Вотще он стонет исступленный: Ему не внемлет Феб скупой, И гибнет мир новорожденный В груди бессильной и немой» .
Поэты‑романтики второго ряда
Поэты кружка Станкевича (И. Клюшников (1811–1895), В. Красов (1810–1854), К. Аксаков (1817–1860)). Эти поэты получили известность на короткое время в 1830‑е годы. Из них только К. С. Аксаков оставил заметный след в литературе страстной стихотворной публицистикой (например, стихотворение «Свободное слово» ) и горячей популяризацией славянофильского учения.
Из других поэтов 1810–1830‑х годов, сохранивших творческую самостоятельность и обративших на себя благосклонное внимание публики, выделялись А. Ф. Воейков, И. И. Козлов, А. Ф. Вельтман, В. И. Туманский, Ф. А. Туманский, А. И. Подолинский, В. Г. Тепляков, В. Г. Бенедиктов, А. И. Полежаев и А. В. Кольцов.
А. Ф. Воейков (1779–1839) - Поэт тяготел к описательной лирике и сатире. Он создал в 1814‑1830‑е годы знаменитую сатиру «Дом сумасшедших», в которой карикатурно представил портреты многих литераторов и общественных деятелей начала XIX в. В 1816 г. перевел поэму французского поэта Делиля «Сады».
И. И. Козлов (1779–1840) Значительным успехом пользовалось творчество И. Козлова, первые поэтические опыты которого вдохновлены гением Байрона. Его талант был, по словам Жуковского, «пробужденный страданием». Подобно Байрону, Козлову свойственны вольнолюбивые мечтания, честь, благородство. Козлов умел поэтически передать и гражданскую страстность, и нравственную взыскательность, и тончайшие душевные переживания. Ему не были чужды сомнения, тревоги, «скорбь души», «светлые мечты», «тайны дум высоких», живая радость, красота женщины, сладкая тоска – все то, чем живет человек. Козлову часто не доставало оригинальности, его поэтический словарь слишком традиционен, в нем повторяются привычные «поэтизмы» романтической поэзии, но в лучших произведениях, таких как «Романс» («Есть тихая роща у быстрых ключей…»), «Венецианская ночь. Фантазия», «На погребение английского генерала сира Джона Мура», «Княгине З. А. Волконской», «Вечерний звон», он достигает подлинной искренности.
Ему принадлежит одно из лучших стихотворных переложений из «Слова о полку Игореве» – «Плач Ярославны». Поэма Козлова «Чернец» стоит в одном ряду с романтическими поэмами Пушкина и Лермонтова.
В. Г. Бенедиктов (1807–1873) Когда романтическая поэзия уже переживала кризис и клонилась к закату, а читатели еще эстетически не доросли до благородной простоты пушкинской «поэзии действительности», в поэзии зазвучал голос В. Бенедиктова. Успех его поэзии во второй половине 1830‑х и в начале 1840‑х годов был оглушительным и почти всеобщим. При этом похвалы расточали не какие‑нибудь неискушенные в искусстве слова люди, а знающие в нем толк поэты, чей тонкий поэтический вкус не может быть подвержен сомнению. Юные Ап. Григорьев, А. Фет, Я. Полонский, И. Тургенев, Н. Некрасов восторженно встретили новый талант. Впоследствии они со стыдом вспоминали о своей вкусовой оплошности. Их могли извинить только молодость и увлеченность, которые закрыли им глаза на очевидные провалы вкуса в поэзии Бенедиктова. Что касается обычной публики, то ее мнение выразил один из книгопродавцев: «Этот почище Пушкина‑то будет».
Справедливости ради надо сказать, что Бенедиктов не был лишен таланта, и это, по словам Некрасова, «непостижимое сочетание дарования… с невероятным отсутствием вкуса», очевидно, и ввело в заблуждение молодых литераторов. Ошеломляющее впечатление, произведенное стихами Бенедиктова, не коснулось, однако, ни Пушкина, ни Белинского. Пушкин, по воспоминаниям, иронически одобрил рифмы нового поэта, Белинский подверг его стихи суровому критическому разбору. Слава Бенедиктова длилась недолго и, как остроумно заметил А. Н. Архангельский, его «хвалили… поначалу за то же, за что после стали ругать…».
Причина столь шумного появления Бенедиктова на поэтической сцене вполне понятна: он отвечал ожиданиям невзыскательной читательской публики. Пушкин и лучшие поэты, окружавшие его, постепенно отходили от романтизма в поэзии и обозначили новые художественные пути. Они в своих исканиях ушли далеко вперед. Читатели по‑прежнему ждали романтических порывов в некую туманную запредельность, которая не напоминала бы о скорбях действительной жизни, о житейских заботах и печалях, им по душе был образ поэта‑жреца, избранника, кумира, отрешенного от реальности и высоко возвышавшегося над толпой. Если Жуковский отстаивал формулу «Жизнь и поэзия – одно», если Батюшков говорил о себе: «И жил так точно, как писал», то читатели не признавали какой‑либо связи между жизнью и поэзией. В жизни все должно быть так, как есть, в поэзии – не так, как есть. Жизнь – это одно, поэзия – совсем другое.
Именно такому массовому читателю Бенедиктов пришелся ко двору. Что собой представлял Бенедиктов? В жизни – хороший чиновник. В поэзии – восторженный поэт со сверхромантическими порывами, превращающий самое обычное, мелкое и бытовое в грандиозное, величественное и для всех смертных, в том числе для себя, – в недосягаемое. Бенедиктов живет одной жизнью, пишет – о другой. Лирический герой Бенедиктова не имеет ничего общего и никаких точек соприкосновения с чиновником Бенедиктовым. Бенедиктов создал поэтическую маску, ни в чем на него, чиновника, не похожую. Пространство, где обитает чиновник Бенедиктов, известно: департамент, служебные комнаты, петербургская квартира, проспекты и улицы Петербурга; оно полно звуками, людским и прочим шумом. Лирический герой Бенедиктова живет в ином пространстве. Там каждой вещи придан вселенский масштаб: «Безграничная даль, Безответная тишь Отражает, Как в зеркале, вечность ». Бенедиктов стремится к тому, чтобы разрыв между жизнью и поэзией не уменьшался, а увеличивался. В поэзии, по его мнению, все должно быть иначе, чем в жизни («зарождение чистого искусства»).
Вся поэтическая стилистика Бенедиктова свидетельствует о резком разрыве с принципами пушкинской стилистики, которые были усвоены лучшими поэтами и разделялись ими – ясностью, точностью, прозрачностью мысли и ее словесного выражения. Порывая с пушкинской поэтикой, Бенедиктов не порывал с допушкинской романтической системой. Особенность Бенедиктова состояла в том, что традиционные общеромантические стилистические штампы и образы он соединил со смелыми и удачными словосочетаниями, свежей образностью, разрывающей стертую словесную ткань. Вот пример поэтической отваги Бенедиктова: «Конь кипучий бежит, бег и ровен и скор, Быстрота седоку неприметна! Тщетно хочет его опереться там взор: Степь нагая кругом беспредметна».
А. И. Полежаев (1804–1838) Среди поэтов конца 1820–1830‑х годов А. Полежаев выделялся своей несчастной и трагической судьбой, которая не щадила поэта с дней рожденья. Он был незаконнорожденным сыном, обвинен по доносу в нарушении норм общественной нравственности, сослан в качестве унтер‑офицера Бутырского пехотного полка, разжалован в солдаты, лишен дворянского звания «без выслуги», страдал чахоткой и в 33 года умер.
Полежаев начал писать в конце 1820‑х годов. Его стихи были отчетливо ориентированы на пушкинский принцип стилистической свободы и отличались резким смыслом, энергичным ритмом и злободневностью. «Я умру! На позор палачам Беззащитное тело отдам! Но, как дуб вековой, Неподвижный от стрел, Я, недвижим и смел, Встречу миг роковой! ». В отдельных стихотворениях («Сарафанчик») Полежаев пытался обратиться к народной образности.
Начинает Полежаев с традиционных тем: жизнь – поток быстротекущих дней («Наденьке», «Водопад»), жизнь человека строится по законам природы («Вечерняя заря», «Цепи»): 15 лет – время любви и взросления («Любовь»). Но герой Полежаева нарушает эти нормы жизни: «Не расцвел – и отцвел в утре пасмурных дней» («Вечерняя заря»). Появляется образ моря жизни, где человек – это пловец, челнок: «Песнь погибающего пловца», «Море», «К моему гению». Царем над всеми законами жизни является рок («Рок»), а утрата «вольности и покоя» делает героя «отверженцем людей» («Живой мертвец», «Судьба меня в младенчестве убила!..», «Негодование»). Атеизм приводит к богоборчеству («Ожесточенный») и демонизму («Божий суд»), что сближает поэзию Полежаева с творчеством М.Ю. Лермонтова («<Узник>», «Грусть», «Тоска»).
А. В. Кольцов (1809–1842) Многие русские поэты, обрабатывая русский фольклор, сочинили замечательные песни и романсы, создали в народном духе целые поэмы и сказки. Но ни для кого из них фольклор в такой степени не был своим, как для Кольцова, который жил в народной среде и мыслил сообразно вековым народным представлениям. Своим талантом Кольцов привлек к себе внимание сначала провинциальных воронежских литераторов и меценатов, затем и столичных – Н. В. Станкевича, Жуковского, Вяземского и в особенности Белинского. Познакомился Кольцов и с Пушкиным.
Одна из центральных проблем русской литературы XIX в. – разъединенность дворянской и народной культур, разрыв между жизнью народа и жизнью образованного сословия. В творчестве Кольцова в известной мере этот разрыв оказался преодоленным, поскольку поэт соединял в своей поэзии достоинства фольклора и профессиональной литературы.
В народных песнях Кольцова перед читателем встает не конкретный (индивидуализированный) крестьянин, а крестьянин вообще. И поет Кольцов не о каких‑то особых заботах, бедах и радостях крестьянина, как Некрасов, в поэзии которого у разных крестьян – разные судьбы и разные печали, но общих, общекрестьянских и общенародных. Поэтому и содержание поэзии Кольцова, и форма были органично связаны с народным творчеством. Крестьянин у Кольцова в полном соответствии с народным укладом, окружен природой, и его жизнь определена природным календарем, природным расписанием и распорядком. Природному циклу подчинена вся трудовая жизнь крестьянина («Песня пахаря», «Урожай»). Как только крестьянин выпадает из природного цикла, утрачивает власть этого своеобразного «крестьянского пантеизма», он сразу чувствует тревогу, угрозу и страх, предвещающий смерть («Что ты спишь, мужичок?»). Если крестьянин живет в единстве с природой, с историей и со своим «родом‑племенем», то ощущает себя богатырем, чувствует в себе силы необъятные. По‑народному герой Кольцова понимает и превратности судьбы: он умеет быть счастливым в счастье и терпеливым в несчастье (две песни Лихача Кудрявича).
Отход Кольцова от народного миросозерцания и попытки вступить в область профессиональной литературы, т. е. писать такие же стихи, как и образованные литераторы‑дворяне, ни к чему хорошему не привел. Его усилия создать стихотворения в духе философских элегий и дум, перелить в стихи свои философские размышления окончились неудачей. Стихотворения эти были наивными, поэтически слабыми.
О влиянии Пушкина на русскую поэзию Гоголь писал: «Не сделал того Карамзин в прозе, что он в стихах. Подражатели Карамзина послужили жалкой карикатурой на него самого и довели как слог, так и мысли до сахарной приторности. Что же касается Пушкина, то он был для всех поэтов, ему современных, точно сброшенный с неба поэтический огонь, от которого, как свечки, зажглись другие самоцветные поэты. Вокруг него вдруг образовалось их целое созвездие…»
Молодые поэты, чувствуя благотворное влияние Пушкина на свое творчество, даже искали его покровительства. В 1817 году В. И. Туманский писал Пушкину: «Твои связи, народность твоей славы, твоя голова… все дает тебе лестную возможность действовать на умы с успехом гораздо обширнейшим против прочих литераторов. С высоты своего положения должен ты все наблюдать, за всем надсматривать, сбивать головы похищенным репутациям и выводить в люди скромные таланты, которые за тебя же будут держаться».
В то же время поэты пушкинского круга не только шли за Пушкиным, но и вступали в соперничество с ним. Их эволюция не во всем совпадала со стремительным развитием русского гения, опережавшим свое время. Оставаясь романтиками, Баратынский или Языков уже не могли по достоинству оценить его «романа в стихах» «Евгений Онегин» и с недоверием относились к его реалистической прозе. Близость их к Пушкину не исключала диалога с ним.
Другой закономерностью развития этих поэтов было особое соотношение их творческих достижений с поэтическим миром Пушкина. Поэты пушкинской поры творчески воплощали, а порою даже развивали и совершенствовали лишь отдельные стороны его поэтической системы. Но Пушкин с его универсализмом оставался для них неповторимым образцом.
Возникновение «пушкинской плеяды» связывают с временами Лицея и первых послелицейских лет, когда вокруг Пушкина возник «союз поэтов». Это было духовное единство, основанное на общности эстетических вкусов и представлений о природе и назначении поэзии. Культ дружбы тут окрашивался особыми красками: дружили между собою «любимцы вечных муз», соединенные в «святое братство» поэтов, пророков, любимцев богов, с презрением относившихся к «безумной толпе». Сказывался уже новый, романтический взгляд на поэта как на Божьего избранника. На раннем этапе тут господствовал эпикуреизм, не лишенный открытой оппозиционности по отношению к принятым в официальном мире формам ханжеской морали и сектантской набожности. Молодые поэты следовали традиции раннего Батюшкова, отразившейся в его знаменитом послании «Мои Пенаты» и в цикле стихов антологического содержания.
Постепенно этот союз начинал принимать форму зрелой оппозиции по отношению к самовластию царя, реакционному режиму Аракчеева. Одновременно возникали насущные проблемы дальнейшего развития и обогащения языка русской поэзии. «Школа гармонической точности», утвержденная усилиями Жуковского и Батюшкова, молодому поколению поэтов показалась уже архаической: она сдерживала дальнейшее развитие поэзии строгими формами поэтического мышления, стилистической сглаженностью выражения мысли, тематической узостью и односторонностью.
Вспомним, что Жуковский и Батюшков, равно как и поэты гражданского направления, разработали целый язык поэтических символов, кочевавших затем из одного стихотворения в другое и создававших ощущение гармонии, поэтической возвышенности языка: «пламень любви», «чаша радости», «упоение сердца», «жар сердца», «хлад сердечный», «пить дыхание», «томный взор», «пламенный восторг», «тайны прелести», «дева любви», «ложе роскоши», «память сердца». Поэты пушкинской плеяды стремятся различными способами противостоять «развеществлению поэтического слова – явлению закономерному в системе устойчивых стилей, которая пришла в 1810-1820-х годах на смену жанровой, – замечает К. К. Бухмейер. – Поэтика таких стилей зиждилась на принципиальной повторяемости поэтических формул (слов-сигналов), рассчитанных на узнавание и возникновение определенных ассоциаций (например, в национально-историческом стиле: цепи, мечи, рабы, кинжал, мщенье; в стиле элегическом: слезы, урны, радость, розы, златые дни и т. п.). Однако выразительные возможности такого слова в каждом данном поэтическом контексте суживались: являясь знаком стиля, оно становилось почти однозначным, теряло частично свое предметное значение, а с ним и силу непосредственного воздействия». На новом этапе развития русской поэзии возникла потребность, не отказываясь полностью от достижений предшественников, вернуть поэтическому слову его простое, «предметное» содержание.
Одним из путей обновления языка стало обращение к античной поэзии, уже обогащенное опытом народности в романтическом его понимании. Поэты пушкинского круга, опираясь на опыт позднего Батюшкова, решительно отошли от представлений об античной культуре как о вневременном эталоне для прямого подражания. Античность предстала перед ними как особый мир, исторически обусловленный и в своих существенных качествах в новые времена неповторимый. По замечанию В. Э. Вацуро, «произошло открытие того непреложного для нас факта, что человек иной культурной эпохи мыслил и чувствовал в иных, отличных от современности, формах и что эти формы обладают своей эстетической ценностью».
И ценность эту на современном этапе развития русской поэзии в первую очередь почувствовал Пушкин. Антологическая и идиллическая лирика, по его определению, «не допускает ничего напряженного в чувствах; тонкого, запутанного в мыслях; лишнего, неестественного в описаниях». За оценкой идиллий А. А. Дельвига, которым эти слова Пушкина адресованы, чувствуется скрытая полемика со школой Жуковского, достигавшей поэтических успехов за счет приглушения предметного смысла слова и привнесения в него субъективных, ассоциативных смысловых оттенков.
Дельвиг Антон Антонович (1798-1831)
В кругу поэтов «пушкинской плеяды» первое место не случайно отводится любимцу Пушкина Антону Антоновичу Дельвигу (1798-1831). Однажды Пушкин подарил ему статуэтку бронзового сфинкса, известного в древней мифологии получеловека-полульва, испытующего путников своими загадками, и сопроводил подарок таким мадригалом:
Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы?
В веке железном, скажи, кто золотой угадал?
Кто славянин молодой, грек духом, а родом германец?
Вот загадка моя: хитрый Эдип, разреши!
Дельвиг вошел в русскую литературу как мастер идиллического жанра в антологическом роде. «Какую силу воображения должно иметь, – писал об идиллиях Дельвига Пушкин, – дабы так совершенно перенестись из 19 столетия в золотой век, и какое необыкновенное чутье изящного, чтобы так угадать греческую поэзию». Пушкин почувствовал в поэзии Дельвига живое дыхание прошлого, историзм в передаче «детства рода человеческого».
В своих опытах Дельвиг шел от Н. И. Гнедича, который в предисловии к собственному переводу идиллии Феокрита «Сиракузянка» (1811) отметил, что «род поэзии идиллической, более, нежели всякий другой, требует содержаний народных, отечественных; не одни пастухи, но все состояния людей, по роду жизни близких к природе, могут быть предметом сей поэзии».
В своих идиллиях Дельвиг переносит читателя в «золотой век» античности, где человек еще не был отчужден от общества и жил в гармоническом союзе с природой. Все здесь овеяно романтической мечтой поэта о простых и неразложимых ценностях жизни, утраченных современной цивилизацией. Поэт изображает античность как неповторимую эпоху, сохраняющую для современного человека свое обаяние и рождающую тоску о том, что наш мир потерял.
Его идиллии приближаются к жанровым сценкам, картинкам, изображающим те или иные эпизоды из жизни простых поселян. Это герои, наделенные скромными и простыми добродетелями: они не умеют притворяться и лгать, драмы в их быту напоминают мирные семейные ссоры, которые лишь укрепляют прочность общинной жизни. По-своему простой человек живет, любит, дружит и веселится, по-своему встречает он и роковую для современных романтиков смерть. Живущий в единстве с природой, он не чувствует трагизма в кратковременности своего существования.
Но как только микроб обмана проникает в мир этих чистых отношений, наступает катастрофа. В идиллии «Конец золотого века» (1828) городской юноша Мелетий соблазняет пастушку Амариллу, и тогда всю страну постигает несчастье. Тонет в реке Амарилла, меркнет красота Аркадии, холод душевный студит сердца поселян, разрушается навсегда гармония между человеком и природой. Этот мотив в нашей литературе будет жить долго. Отзовется он в стихотворении друга Дельвига Баратынского «Последний поэт». Оживет в повести «Казаки» Л. Н. Толстого. А потом «золотой век» будет тревожить воображение героев Ф. М. Достоевского, отзовется в сне Версилова из его романа «Подросток».
Антологическая тема у Дельвига, как и следовало ожидать, послужила своеобразным мостиком к изображению русской народной жизни. Впервые русскую патриархальность с античной пытался соединить Н. И. Гнедич в идиллии «Рыбаки». Антологический жанр восстанавливал в русской поэзии не только вкус к точному слову, но и чувство живого, патриархально-народного быта. В антологических сюжетах формировалось понимание народности как исторически обусловленного сообщества людей. Вслед за Гнедичем Дельвиг пишет «русскую идиллию» «Отставной солдат» (1829). Драматическая форма ее в чем-то предвосхищает народные диалоги в поэмах Н. А. Некрасова. На огонек к пастухам выходит русский калека-солдат, бредущий домой из стран далеких:
Ах, братцы! Что за рай земной у вас
Под Курском! В этот вечер словно чудом
Помолодел я, вволю надышавшись
Теплом и запахом целебным! Любо,
Легко мне в воздухе родном, как рыбке
В реке студеной!…
Пригревшись у гостеприимного костра, отведав нехитрой пастушеской снеди, солдат рассказывает о пожаре Москвы, о бегстве и гибели французов:
Недалеко ушли же. На дороге
Мороз схватил их и заставил ждать
Дня судного на месте преступленья:
У Божьей церкви, ими оскверненной,
В разграбленном анбаре, у села,
Сожженного их буйством!…
Особое место в творческом наследии Дельвига заняли его «русские песни». Поэт внимательно вслушивался в сам дух народной песни, в ее композиционный строй и стиль..Хотя многие его упрекали в литературности, в отсутствии подлинной народности, эти упреки неверны, если вспомнить известный совет Пушкина судить поэта по законам, им самим над собою признанным. Дельвиг не имитировал народную песню, как это делали его предшественники, включая А. Ф. Мерзлякова. Он подходил к русской народной культуре с теми же мерками историзма, с какими он воспроизводил дух античности. Дельвиг пытался проникнуть изнутри в духовный и художественный мир народной песни. «Еще при жизни Дельвига ему пытались противопоставить А. Ф. Мерзлякова – автора широко популярных „русских песен“, как поэта, ближе связанного со стихией народной жизни, – замечает В. Э. Вацуро. – Может быть, это было и так, – но песни Мерзлякова отстоят от подлинной народной поэзии дальше, чем песни Дельвига. Дельвиг сумел Уловить те черты фольклорной поэтики, мимо которых прошла письменная литература его времени: атмосферу, созданную не прямо, а опосредствованно, сдержанность и силу чувства, характерный символизм скупой образности. В народных песнях он искал национального характера и понимал его при том как характер „наивный“ и патриархальный. Это была своеобразная „антология“, но на русском национальном материале». Здесь Дельвиг приближался к тому методу освоения фольклора, к которому пришел впоследствии А. В. Кольцов.
«Русские песни» Дельвига – «Ах ты, ночь ли, ноченька…», «Голова ль моя, головушка…», «Что, красотка молодая…», «Скучно, девушки, весною жить одной…», «Пела, пела пташечка…», «Соловей мой, соловей…», «Как за реченькой слободушка стоит…», «И я выйду на крылечко…», «Сиротинушка девушка…», «По небу тучи громовые ходят…», «Как у нас ли на кровельке…», «Я вечор в саду, младешенька, гуляла», «Не осенний мелкий дождичек…» – вошли не только в салонный, городской, но и в народный репертуар. «Соловей» своими первыми четырьмя стихами обрел бессмертие в романсе А. А. Алябьева. М. Глинка положил на музыку специально сочиненную для него Дельвигом песню «Не осенний мелкий дождичек…». Нет сомнения, что «русские песни» Дельвига повлияли и на становление таланта А. В. Кольцова.
Заслуживают внимания и многочисленные элегические стихи Дельвига, занимающие промежуточное место между классической унылой элегией и любовным романсом. «Когда, душа, просилась ты…», «Протекших дней очарованья…» (стихотворение «Разочарование») до сих пор звучат в мелодиях М. Л. Яковлева и А. С. Даргомыжского. Дельвиг смело вводит в элегию античные мотивы, равно как элегическими мотивами наполняет романс. В итоге элегия приобретает сюжетный динамизм и языковое многообразие, теряет свойственные ей черты статичности и стилистической однотонности.
В русской поэзии Дельвиг прославился и как мастер сонета. Он не только стремился придать этой форме изящество и формальное совершенство, но и насыщал ее богатым философским содержанием. Таков, например, его сонет «Вдохновение» (1822), где звучит романтическая мысль об очистительном влиянии вдохновения, в минуты которого Бог дает душе поэта ощущение бессмертия:
Не часто к нам слетает вдохновенье,
И краткий миг в душе оно горит;
Но этот миг любимец муз ценит,
Как мученик с землею разлученье.
В друзьях обман, в любви разуверенье
И яд во всем, чем сердце дорожит,
Забыты им: восторженный пиит
Уж прочитал свое предназначенье.
И презренный, гонимый от людей,
Блуждающий один под небесами,
Он говорит с грядущими веками;
Он ставит честь превыше всех честей,
Он клевете мстит славою своей
И делится бессмертием с богами.
В историю Дельвиг вошел и как организатор литературной жизни. Он издавал один из лучших альманахов 1820-х годов «Северные цветы», а потом, в содружестве с А. С. Пушкиным, затеял издание «Литературной газеты», нацеленной против торгового направления в русской журналистике, против «коммерческой эстетики», утверждаемой в начале 1830-х годов бойкими петербургскими журналистами Булгариным и Гречем. «Литературная газета» Дельвига объединила тогда лучшие, «аристократические» литературные силы России. Но в 1830 году, в ноябре, она была закрыта за публикацию четверостишия, посвященного Июльской революции во Франции. Дельвиг, получив строжайшее предупреждение от самого Бенкендорфа, пережил тяжелое нервное потрясение, окончательно подорвавшее и без того слабое здоровье. Случайная январская простуда до времени свела его в могилу 14 (26) января 1831 года.
Вяземский Петр Андреевич (1792-1878)
Петр Андреевич Вяземский принадлежал к числу старейшин в кругу поэтов пушкинской плеяды. Он родился в Москве в семействе потомственных удельных князей, в среде старинной феодальной знати. Хотя к началу XIX века она изрядно оскудела, но все еще сохраняла горделивый дух дворянской фронды, с презрением относившейся в неродовитой публике, окружавшей царский трон. В 1805 году отец поместил сына в петербургский иезуитский пансион, потом Вяземский поучился немного в пансионе при Педагогическом институте, а в 1806 году по настоянию отца, озабоченного вольным поведением сына, вернулся в Москву, где пополнял свое образование частными уроками у профессоров Московского университета. В 1807-м отец умер, оставив пятнадцатилетнему отроку крупное состояние. Началась рассеянная жизнь, молодые пирушки, карты, пока Н. М. Карамзин, еще в 1801 году женившийся на сводной сестре Вяземского Екатерине Андреевне, не взял его под свою опеку и не заменил ему рано ушедшего отца.
В грозные дни 1812 года Вяземский вступил в московское ополчение, участвовал в Бородинском сражении, где под ним одна лошадь была убита, а другая ранена. За храбрость он был награжден орденом Станислава 4-й степени, но болезнь помешала ему участвовать в дальнейших боевых действиях. Он покидает Москву с семейством Карамзиных и добирается до Ярославля, откуда Карамзины уезжают в Нижний Новгород, а Вяземский с женой – в Вологду.
Литературные интересы Вяземского отличаются необыкновенной широтой и энциклопедизмом. Это и политик, и мыслитель, и журналист, и критик-полемист романтического направления, и автор ценнейших «Записных книжек», мемуарист, выступивший с описанием жизни и быта «допожарной» Москвы, поэт и переводчик. В отличие от своих молодых друзей он ощущал себя всю жизнь наследником века Просвещения, с детства приобщившимся к трудам французских энциклопедистов в богатой библиотеке своего отца.
Но литературную деятельность он начинает как сторонник Карамзина и Дмитриева. В его подмосковном имении Остафьево периодически собираются русские литераторы и поэты, назвавшие себя «Дружеской артелью» – Денис Давыдов, Александр Тургенев, Василий Жуковский, Константин Батюшков, Василий Пушкин, Дмитрий Блудов – все будущие участники «Арзамаса». Вяземский ориентируется тогда на «легкую поэзию», которую культивируют молодые предромантики. Ведущим жанром является литературное послание, в котором Вяземский проявляет самобытность в описании прелестей уединенного домашнего бытия («Послание к Жуковскому в деревню», «Моим друзьям Жуковскому, Батюшкову и Северину», «К друзьям», «К подруге», «Послание Тургеневу с пирогом»). К ним примыкают «Прощание с халатом», «Устав столовой» и др. Утверждается мысль о естественном равенстве, характерная для просветителей и осложненная рассуждениями о превосходстве духовной близости над чопорной знатностью:
Гостеприимство – без чинов,
Разнообразность – в разговорах,
В рассказах – бережливость слов,
Холоднокровье – в жарких спорах,
Без умничанья – простота,
Веселость – дух свободы трезвой,
Без едкой желчи – острота,
Без шутовства – соль шутки резвой.
Это стихи, свободные от всякой официальности и парадности, культивирующие независимость, изящное «безделье», вражду ко всему казенному. Особенностью дружеских посланий Вяземского является парадоксальное сочетание поэтической условности с реалиями конкретной, бытовой обстановки. В послания проникают обиходные слова, шутки, сатирические зарисовки. Отрабатывается повествовательная манера, близкая к непритязательному дружескому разговору, который найдет отражение в романе Пушкина «Евгений Онегин». В «Послании к Тургеневу с пирогом» Вяземский пишет:
Иль, отложив балясы стихотворства,
(Ты за себя сам ритор и посол),
Ступай, пирог, к Тургеневу на стол,
Достойный дар и дружбы и обжорства!
Вслед за дружескими посланиями создается серия эпиграмм, ноэлей, басен, сатирических куплетов, в которых насмешливый ум Вяземского проникает в самую суть вещей, подавая их в остроумном свете. Предметы обличений – «староверы» из шишковской «Беседы…», эпигоны Карамзина, консерваторы в политике. О Шаховском он скажет:
Ты в «Шубах» Шутовской холодный,
В «Водах» ты Шутовской сухой.
Убийственную пародию создает Вяземский на распространенный в начале века жанр сентиментальных путешествий – «Эпизодический отрывок из путешествия в стихах. Первый отдых Воздыхалова»:
Он весь в экспромте был.
Пока К нему навстречу из лачужки
Выходит баба; ожил он!
На милый идеал пастушки
Лорнет наводит Селадон,
Платок свой алый расправляет,
Вздыхает раз, вздыхает два,
И к ней, кобенясь, обращает
Он следующие слова:
«Приветствую мольбой стократной
Гебею здешней стороны!»…
Известный мемуарист, собрат Вяземского по «Арзамасу» Филипп Филиппович Вигель, вспоминая о литературной жизни начала 1810-х годов, писал: «В это же время в Москве явилось маленькое чудо. Несовершеннолетний мальчик Вяземский вдруг выступил вперед и защитником Карамзина от неприятелей, и грозою пачкунов, которые, прикрываясь именем и знаменем его, бесславили их… Карамзин никогда не любил сатир, эпиграмм и вообще литературных ссор, а никак не мог в воспитаннике своем обуздать бранного духа, любовию же к нему возбуждаемого. А впрочем, что за беда? Дитя молодое, пусть еще тешится; а дитя куда тяжел был на руку! Как Иван-царевич, бывало, князь Петр Андреевич кого за руку – рука прочь, кого за голову – голова прочь». Нанося удары направо и налево, Вяземский определяет свою эстетическую позицию, не совпадающую с позицией «школы гармонической точности».
Во-первых, как наследник просветительской культуры XVIII века, он неизменно противопоставляет поэзии чувства поэзию мысли. Во-вторых, он выступает против гладкости, стертости, изысканности поэтического стиля: «Очень люблю и высоко ценю певучесть чужих стихов, а сам в стихах нисколько не гонюсь за этой певучестью. Никогда не пожертвую звуку мыслью моею. В стихе моем хочу сказать то, что сказать хочу; об ушах ближнего не забочусь и не помышляю… Мое упрямство, мое насилование придают иногда стихам моим прозаическую вялость, иногда вычурность». Избегая поэтизации, Вяземский шел в русле развития русской поэзии, которая в пушкинскую эпоху стала решительно сближать язык книжный с языком устным. Отступление от стиля «гармонической точности» приводило к некоторой дисгармоничности и стилистической пестроте его поэзии:
Язык мой не всегда бывает непорочным,
Вкус верным, чистым слог, а выраженье точным.
С середины 1810-х годов в творчестве Вяземского совершаются заметные перемены. В феврале 1818 года он определяется на государственную службу в Варшаву чиновником для иностранной переписки при императорском комиссаре Н. Н. Новосильцеве. Он знает, что по заданию государя его непосредственный начальник работает над проектом русской конституции. Свое вступление в ответственную должность Вяземский сопровождает большим стихотворением «Петербург» (1818), в котором, возрождая традицию русской оды, пытается воздействовать на благие начинания государя. Подобно Пушкину в «Стансах», он напоминает Александру о великих деяниях Петра:
Се Петр еще живый в меди красноречивой!
Под ним полтавский конь, предтеча горделивый
Штыков сверкающих и веющих знамен.
Он царствует еще над созданным им градом,
Приосеня его державною рукой,
Народной чести страж и злобе страх немой.
Пускай враги дерзнут, вооружаясь адом,
Нести к твоим брегам кровавый меч войны,
Герой! Ты отразишь их неподвижным взглядом,
Готовый пасть на них с отважной крутизны.
Образ «Медного всадника», созданный здесь Вяземским, отзовется потом в одноименной поэме Пушкина. Воспевая вслед за этим век Екатерины, поэт считает, что не следует завидовать прошлому:
Наш век есть славы век, наш царь – любовь вселенной!
Намекая на освободительную миссию Александра I в Европе, Вяземский дает в финале царю свой урок:
Петр создал подданных, ты образуй граждан!
Пускай уставов дар и оных страж – свобода.
Обетованный брег великого народа,
Всех чистых доблестей распустит семена.
С благоговеньем ждет, о царь, твоя страна,
Чтоб счастье давши ей, дал и права на счастье!
«Народных бед творец – слепое самовластье», -
Страстей преступный мрак проникнувши глубоко,
Закона зоркий взгляд над царствами блюдет,
Как провидения недремлющее око.
Вяземскому казалось, что его мечты о конституционной монархии в России, совпадающие полностью с мечтами Северного общества декабристов, вскоре станут реальностью. В тронной речи при открытии в 1818 году Польского сейма Александр I сказал: «Я намерен дать благотворное конституционное правление всем народам, провидением мне вверенным». Вяземский знал в это время «больше, чем знали сами декабристы: он знал, что написана уже конституция Российской империи и от одного росчерка Александра зависит воплотить ее в жизнь» (С. Н. Дурылин). Однако хорошо изучивший характер Александра Адам Чарторыйский в своих «Мемуарах» писал: «Императору нравились внешние формы свободы, как нравятся красивые зрелища; ему нравилось, что его правительство внешне походило на правительство свободное, и он хвастался этим. Но ему нужны были только наружный вид и форма, воплощения же их в действительности он не допускал. Одним словом, он охотно согласился бы дать свободу всему миру, но при условии, что все добровольно будут подчиняться исключительно его воле».
При радушной встрече с государем после тронной речи Вяземский передал ему записку от высокопоставленных и либерально мыслящих чиновников-дворян, в которой те всеподданнейше просили о позволении приступить к рассмотрению и решению другого важного вопроса об освобождении крестьян от крепостной зависимости. И вот в 1821 году во время летнего отпуска Вяземский получил письмо от Новосильцева, в котором государь запрещал ему возвращаться в Варшаву. Это изгнание так оскорбило Вяземского, что он демонстративно подал прошение о выключении его из звания камер-юнкера двора, носимого с 1811 года.
Итогом этих событий явилось знаменитое стихотворение Вяземского «Негодование» (1820). Безыменный доносчик писал Бенкендорфу: «Образ мыслей Вяземского может быть достойно оценен по одной его стихотворной пьесе „Негодование“, служившей катехизисом заговорщиков (декабристов!)». Николай Кутанов (псевдоним С. Н. Дурылина) в давней работе «Декабрист без декабря», посвященной Вяземскому, писал:
«У редкого из декабристов можно отыскать столь яркое нападение на одну из основ крепостного государства – на насильственное выжимание податями и поборами экономических соков из крепостных масс. Ни в „Деревне“ Пушкина, ни в „Горе от ума“ нет такого нападения.
Но Вяземский, движимый Аполлоном „негодования“, оказался в своих стихах не только поэтом декабризма, каким был Пушкин, но и поэтом декабря, каким был Рылеев: „катехизис“ заканчивается призывом на Сенатскую площадь:
Он загорится, день, день торжества и казни,
День радостных надежд, день горестной боязни!
Раздастся песнь побед вам, истины жрецы,
Вам, други чести и свободы!
Вам плач надгробный! вам, отступники природы!
Вам, притеснители! вам, низкие льстецы!»
И все-таки Вяземский не был членом тайного общества декабристов. В «Исповеди», написанной в 1829 году, он так объяснял непонятную для властей свою непричастность к декабристским организациям: «Всякая принадлежность тайному обществу есть уже порабощение личной воли своей тайной воле вожаков. Хорошо приготовление к свободе, которое начинается закабалением себя!»
Что же касается недругов своих, вызвавших прилив негодования, то Вяземский как-то по их поводу сказал: «Одна моя надежда, одно мое утешение в уверении, что и они увидят на том свете, как они в здешнем были глупы, бестолковы, вредны, как они справедливо и строго были оценены общим мнением, как они не возбуждали никакого благородного сочувствия в народе, который с твердостию, с самоотвержением сносил их как временное зло, ниспосланное Провидением в неисповедимой Своей воле. Надеяться, что они когда-нибудь образумятся и здесь, безрассудно, да и не должно. Одна гроза могла бы их образумить. Гром не грянет, русский человек не перекрестится. И в политическом отношении должны мы верить бессмертию души и Второму пришествию для суда живых и мертвых. Иначе политическое отчаяние овладело бы душою» (запись 1844 года).
В художественном отношении «Негодование» представляет сложный сплав традиций высокой оды с элегическими мотивами, особенно ярко звучащими во вступлении. Весь устремленный к гражданской теме, Вяземский не удовлетворен ни карамзинской поэтикой, ни поэтической системой Жуковского. Последнему он серьезно советует обратиться к гражданской теме: «Полно тебе нежиться в облаках, опустись на землю, и пусть, по крайней мере, ужасы, на ней свирепствующие, разбудят энергию души твоей. Посвяти пламень свой правде и брось служение идолам. Благородное негодование – вот современное вдохновение».
В таком же ключе воспринимает Вяземский и романтизм Байрона. Английский поэт становится сейчас его кумиром. Но не поэт «мировой скорби» видится ему в Байроне, а тираноборец, протестант, борец за свободу Греции. Потому «краски романтизма Байрона» сливаются у Вяземского с «красками политическими». В оде «Уныние» Вяземский изображает не столько само психологическое состояние уныния, сколько размышляет над причинами и фактами реальной жизни, его порождающими. Элегический мир неосуществившихся надежд и мечтаний сопрягается в стихотворении с миром гражданских чувств, идей и образов, выдержанных в декламационно-ораторском, архаическом стиле. Жанр унылой элегии раздвигает свои границы, личностно окрашивая «слова-сигналы» их поэтического гражданского словаря. В результате голос поэта резко индивидуализируется, политические размышления и эмоции приобретают только ему, Вяземскому, свойственную интонацию. В произведение входит историзм в понимании современного человека, лирического героя.
При этом Вяземский-критик впервые ставит в своих статьях романтическую проблему народности. Она касается и его собственных произведений. Поэт настаивает на том, что у каждого народа свой строй, своя манера мышления, что русский мыслит иначе, чем француз. Важным шагом на пути творческого воплощения народности явилась элегия Вяземского «Первый снег» (1819), из которой Пушкин взял эпиграф к первой главе «Евгения Онегина» – «И жить торопится, и чувствовать спешит».
Романтики считали, что своеобразие национального характера зависит от климата, от национальной истории, от обычаев, верований, языка. И вот Вяземский в своей элегии сливает лирическое чувство с конкретными деталями русского быта и русского пейзажа. Суровая зимняя красота отвечает особенностям характера русского человека, нравственно чистого, мужественного, презирающего опасности, терпеливого при ударах судьбы:
Презрев мороза гнев и тщетные угрозы,
Румяных щек твоих свежей алеют розы…
Вяземский дает картину русского санного пути, очаровавшую Пушкина, подхватившего ее при описании зимнего пути Евгения Онегина:
Как вьюга легкая, их окриленный бег
Браздами ровными прорезывает снег
И, ярким облаком с земли его взвевая,
Сребристой пылию окидывает их.
Эта тема растет и развивается в поэзии Вяземского и далее в стихах «Зимние карикатуры (Отрывки из журнала зимней поездки в степных губерниях)» (1828), «Дорожная дума» (1830), «Еще тройка» (1834), ставшая популярным романсом, «Еще дорожная дума» (1841), «Масленица на чужой стороне» (1853) и др. Вяземский открывает прелесть в безбрежном покое русских снежных равнин, ощущая связь с ними раздолья русской души, внешне неброской, но внутренне глубокой.
«Провозглашение Вяземским права на индивидуальность мысли определило его место в романтическом движении, – отмечает И. М. Семенко. – Выйдя из круга карамзинских понятий, Вяземский нашел свой путь к романтизму. В отличие от лирического героя Давыдова, образ автора в поэзии Вяземского сугубо интеллектуален. При этом острота интеллекта в стихах Вяземского, так же как храбрость у Давыдова, представляется свойством натуры. Не „всеобщая“ истина, постигаемая рассудком, а неуемный интеллектуальный темперамент личности – залог возникновения новой мысли».
Споры 1820-х годов о путях развития поэзии, о природе русского романтизма обозначили различные направления их развития. Психологический романтизм Жуковского и Батюшкова в его разных модификациях и гражданский романтизм декабристов отчетливо заявили о своем своеобразии уже в начале этой эпохи. И на их фоне критика вначале робко, а затем всё отчетливее заговорила о новой школе в поэзии, о новом поколении поэтов. В журнальных обзорах рядом с набиравшим силы Пушкиным, без которого уже невозможно было представить литературный процесс, стали появляться имена его сверстников и единомышленников, с которыми его связывали дружеские и творческие отношения.
Обозначился тот круг поэтов, который принято называть теперь пушкинским. Еще при жизни Пушкина Баратынский в послании «К князю П.А. Вяземскому» ввел понятие «звезда разрозненной Плеяды». Трудно сказать, кого (кроме себя и Вяземского) Баратынский включал в это сообщество и что он имел в виду, говоря о «разрозненности», но с его легкой руки определение «поэты пушкинской Плеяды» вошло в критический оборот и обрело почти терминологическое значение. В нем есть своя поэтическая привлекательность, но сама аналогия с ронсаровской «Плеядой» недостаточно корректна: во-первых, не существовало какой-либо сознательной организованности поэтов, близких Пушкину, чего-то подобного заседаниям французской «Плеяды», во-вторых, установка ронсаровского кружка на определенные образцы была чужда молодому поколению русских поэтов, хотя, конечно, пафос преобразований, борьбы за новый стиль и национальное своеобразие поэзии отвечал и их устремлениям.
Можно считать, что к середине 1820-х годов пушкинский круг поэтов более или менее определился. В переписке, поэтических посланиях, критических статьях имя Пушкина как творца нового направления, как поэтического авторитета выдвигалось на первый план. Пророческими становились стихи Дельвига, написанные около 1815 г., когда шестнадцатилетний поэт только заявлял о себе:
Пушкин! Он и в лесах не укроется:
Лира выдаст его громким пением,
И от смертных восхитит бессмертного
Аполлон на Олимп торжествующий.
В наибольшей степени поэтические принципы Пушкина, общая эстетическая и жизненная его позиция оказались близки пяти поэтам, которых и можно определить как пушкинский круг. Это Денис Васильевич Давыдов (1784—1939), Николай Михайлович Языков (1803—1846), Петр Андреевич Вяземский (1792—1878), Антон Антонович Дельвиг (1798—1831) и Дмитрий Владимирович Веневитинов (1805—1827).
Различна была степень личных и творческих отношений этих поэтов с Пушкиным, да и между собой. Дельвиг, друг еще с лицейских лет, и Вяземский, познакомившийся с Пушкиным в те же годы и почувствовавший рано его поэтический гений, прошли с ним через всю свою творческую жизнь, были друзьями и соратниками в литературных битвах. Давыдова, как и Вяземского, связывал с Пушкиным «Арзамас». С Языковым дружеские отношения, возникшие в Тригорском летом 1826 г. во время Северной ссылки, возобновившиеся весной 1830 г., сохранились до самой гибели Пушкина и приобрели характер творческого взаимопонимания. С Веневитиновым, четвероюродным братом поэта, оставившим замечательные критические суждения о нем, Пушкина объединило Общество любомудров и «Московский вестник». Точки пересечения были неизбежны, так как все они оказались в зоне пушкинского притяжения, как звезды в Плеяде. И документальные свидетельства: переписка, обмен дружескими посланиями, участие в одних изданиях — тому подтверждение.
Все они поэты пушкинской поры (но здесь они в числе прочих современников Пушкина). Наверное, их можно назвать поэтами пушкинского направления, но это определение, скорее, фиксирует принадлежность к пушкинской традиции, продолжающейся и после них. Они — поэты пушкинского круга, в чем-то предельно замкнутого, а в сущности — очень разомкнутого.
Современники, сопластники, сотрудники, соперники — все эти определения важны для характеристики их взаимоотношений. Но, пожалуй, наиболее точно будет слово из карамзинского лексикона. Они были «сочувственники», ибо их объединяло общее чувство ко многим общественным и нравственным ценностям, эстетическим принципам, к поэтическому стилю. Не случайно Пушкин ввел понятие «школа гармонической точности», опираясь на их открытия в этой области.
Особенности свободолюбия поэтов пушкинского круга
Современники декабристов, приятели поэтов-декабристов, поэты пушкинского круга были свободолюбцами. Вяземского даже называли «декабристом без декабря», да и другим поэтам пушкинского круга ничто гражданское не было чуждо. Но их свободолюбие было принципиально иным: в нем не было политического доктринерства, нравственного аскетизма, противопоставления поэзии и гражданских идеалов. Их свободолюбие — это прежде всего эмансипация души, то вольнолюбие, которое И. Киреевский, говоря о поэзии Языкова, точно назвал «стремлением к душевному простору».
В отличие от декабристов в их поэзию войдут все радости бытия на правах поэтической рефлексии, которые будут соседствовать и пересекаться с общественными эмоциями и гражданскими темами. Они были либералами в высшем смысле этого слова, и их свободолюбие не сужало их поэтический кругозор, а расширяло его. Это было состояние не столько ума, сколько сердца. Так, еще до критики декабристами «унылой элегии» Вяземский опубликует в 1819 г. элегию «Уныние», где, казалось бы, дает материал для критических упреков. Но весь ход мысли поэта — утверждение жизненной силы уныния для рождения высоких чувств и гражданских эмоций: «Ты сблизило меня с полезным размышленьем // И привело под сень миролюбивых сил», «Святую ненавись к бесчестному зажгла...» Ораторский строй речи, экспрессия поэтического языка сближают общий элегический строй элегии «Уныние» с гражданской поэзией декабристов, но в то же время способствуют интимизации свободолюбивой лирики.
Образы степи, тройки, Волги, пира, огня, хмеля, свободы мысли, страстной любви, божественной природы органично входят в диапазон их поэзии. И все эти образы не фиксируются лишь словесно, а живут, дышат, даны на высшем градусе страсти. «Какой избыток чувств и дум, // Какое буйство молодое!» — эти пушкинские слова воссоздают атмосферу рождения нового поколения молодежи и новой генерации поэтов. И не случайно эпиграфом к своему роману «Евгений Онегин» он взял свова из элегии Вяземского «Первый снег»: «И жить торопится, и чувствовать спешит», передав процесс становления героя своего времени.
Поэты пушкинского круга расширяют эмоциональное поле поэзии, вводя в него дорожную тему как экзистенциальную проблему жизненного пути. Многочисленные «дорожные думы» и «тройки» Вяземского, включающие в номинацию текстов словечко «ещё»: «Ещё дорожная дума», «Ещё тройка» — акцентирование момента движения в пространстве как постоянного состояния души.
Не сидится мне на месте,
Спертый воздух давит грудь;
Как жених спешит к невесте,
Я спешу куда-нибудь» —
эта строфа из «Ещё дорожной думы» 1832 г. передает почти интимное чувство дороги, путешествия души. В другом стихотворении одноименного заглавия он дает характерное определение себя и своих единомышленников: «стихии вольной — гражданин». И это определение символично: поэты пушкинского круга — граждане вольной стихии. «Бог дороги» (образ поэзии Языкова) — это прежде всего путь Провидения и неустанного личного выбора-поиска.
Можно сказать, что поэты пушкинского круга одомашнивают, интимизируют гражданские идеи декабристской поэзии. Они сводят их с котурн высокой риторики в сферу повседневной жизни. Тогу трибуна заменяет халат частного человека. Показательно в этом отношении демонстративное прославление халата как символа внутренней свободы и противопоставления его официальной ливрее. В «Прощании с халатом» (1817) Вяземский, называя его своим «лучшим товарищем», замечает: «Так, сдернув с плеч гостиную ливрею // И с ней ярмо взыскательной тщеты, // Я оживал, когда одет халатом, // Мирился вновь с покинутым Пенатом...» Ему вторит в послании «К халату» (1823) молодой Языков: «Пускай служителям Арея // Мила их тесная ливрея <...> // И дни мои, как я в халате, // Стократ пленительнее дней // Царя, живущего некстате». И лирический герой стихотворения Дельвига «Моя хижина» (1818), ревностно утверждая мир своих духовных ценностей, патетически заявляет: «Когда я в хижине моей // Согрет под стеганым халатом, // Не только графов и князей — // Султана не признаю братом!» Внедрение в мир халата образов царя, султана, государственных особ лишь острее выявляет вольнодумство и свободолюбие его «носителей».
Проблема лирического героя
Сопряжение бытовой жизни, домашнего миропорядка, сферы личной рефлексии с пафосом вольнолюбия, героики, высоких идеалов выдвигает в центр лирического повествования не обобщенный образ поэта-гражданина, а индивидуальность певца как выражение органики чувства и отражение своей сферы жизненной эмпирии. Характеризуя особенности поэзии Дениса Давыдова, исследователь справедливо замечает, что в ней «...делается упор на личный склад характера, на то, что можно назвать натурой. Не извне, а изнутри этой активной, жизнелюбивой, самоотверженной натуры идут импульсы отваги и удали...».
Еще Батюшков, называя себя «янькою», подчеркивал особую роль «я» в становлении своей поэтической индивидуальности. Поэты пушкинского круга превращают местоимение «я» в образ-символ своего имени. «Я» и притяжательное местоимение «мой» — концентрированное выражение своего взгляда на окружающий мир, своего жизне- и миротворчества. Вот характерный фрагмент из стихотворения Дельвига «Луна»:
Я вечером с трубкой сидел у окна;
Печально глядела в окошко луна;
Я слышал: потоки шумели вдали;
Я видел: на холмы туманы легли.
В душе замутилось; я дико вздрогнул:
Я прошлое живо душой вспомянул!..
Пятикратное «я» в шести стихах воссоздает особое состояние идиллического умиротворения и вместе с тем столкновения настоящего и прошлого. Луна из натурфилософской реалии превращается в символ духовной жизни и индивидуального мирообраза. В стихотворениях других поэтов, особенно Давыдова и Языкова, подобная концентрация — отражение их жизненной позиции, своего места в военном и студенческом быте. У Вяземского и Веневитинова — утверждение права на оригинальную мысль и оригинальное слово для ее выражения. «Я» в их поэзии не столько утверждение романтического эгоцентризма и ин- дивидуализма, сколько последовательное и целенаправленное раскрытие своей индивидуальности, своего поэтического «я» и своей сферы лирической рефлексии.
Именно в их поэзии поэтому столь значим образ лирического героя как некоей «личностной позы», своей концепции поэтического мира, персонификации в образе автора его представлений о мире и человеке. «Поэтический огонь» Пушкина, от которого «как свечки, зажглись другие самоцветные поэты» (Гоголь), мог их ослепить, просто сжечь. Поиск своего собственного пути в поэзии — сознательный момент самоидентификации поэтов пушкинского круга. Их лирический герой вовсе мог не совпадать с реальным образом своего творца, но он нес в себе и выражал его поэтическую философию.
Конечно, индивидуальность поэтов пушкинского круга, учитывая особенности их творческого пути и характер эволюции, трудно обозначить одним словом, но, рассматривая их место в литературном процессе 1820-х — первой половины 1830-х годов, это возможно. Поэт-гусар Денис Давыдов, поэт-студент Николай Языков, поэт-журналист Петр Вяземский, поэт-идиллик Антон Дельвиг, поэт-философ Дмитрий Веневитинов — в этих доминантных определениях есть свой смысл и свой стиль, который, как известно, есть человек, его индивидуальность.
Жанрово-стилевые поиски поэтов пушкинского круга
Жанрово-стилевые поиски поэтов пушкинского круга разнообразны и разнонаправлены. Но, пожалуй, общим для всех было песенно-романсное начало их лиризма как особая форма душевного простора, эмансипации чувств. Гусарские песни Давыдова, студенческие гимны Языкова, опыты русских песен Дельвига, сатирические куплеты в духе Беранже Вяземского, «Песнь Маргариты» из гетевского «Фауста» в переложении Веневитинова — всё это различные модификации «буйства молодого», когда душа поет, и вместе с тем поиски своего стиля. По самым приблизительным подсчетам на их слова написано около 150 песен и романсов.
Когда читаешь глазами известного по популярному романсу А. Алябьева «Соловья» Дельвига, то понимаешь, откуда родилось очарование музыки. «Русская песня» Дельвига — замечательная стилизация фольклорной девичьей песни на сюжет об утраченной любви. Дельвиг не случайно в автографе назвал эту песню «Русская мелодия 6-я». Для него важно было найти лирический строй, мелодику песни. И хотя соловью отдано в этой песне всего четыре первых стиха:
Соловей мой, соловей,
Ты куда, куда летишь,
Где всю ночку пропоёшь? —
создается полное ощущение, что всё остальное — это его песня, переливы его голоса, его трели. Отсутствие внешней рифмы компенсируется рифмой внутренней, когда многочисленные анафоры смыкаются в единую мелодическую цепь.
Для каждого из поэтов пушкинского круга песни и романсы были тем камер- тоном, на который они настраивали мелодии своей души. Другую функцию выполняли их многочисленные дружеские послания, обращенные к Пушкину, друг к другу, собратьям по перу, близким людям. Это была искрометная поэзия раскрепощенного чувства, где было место и гражданскому чувству, и эстетической рефлексии, и озорной шутке, и иронии, и бытовым зарисовкам, и философским вопросам. И за всем этим угадывалось страстное желание быть самим собой, самоопределиться и утвердиться в своей концепции бытия.
Ироническое начало играет существенную роль в стиле поэтов пушкинского круга. По точному замечанию исследователя, у них ирония «освободилась от рационалистической холодности, преобразилась в свойство личного склада, стала особенностью характера». В отличие от традиционной романтической иронии она не покушается на преображение мира и выявление его изнанки. Она не столько онтологична, сколько антропологична, так как является важным средством самораскрытия, более сложного взгляда на человека. В ней нет еще пушкинской легкости, изящества в соединении разных сфер бытия. Но она способствует варьированию настроений.
Так, известное стихотворение Давыдова «Решительный вечер гусара» на первый взгляд мало чем напоминает любовную элегию, хотя речь в нем идет о любви, и уже два первых стиха: «Сегодня вечером увижусь я с тобою — // Сегодня вечером решится жребий мой...» — рождают ожидание встречи с любимой, предвосхищают любовное объяснение и любовные муки. Но ожидание кажется обманутым: бравада, эпатаж ведут к снижению градуса любовного чувства и повышению градуса пьяного разгула: «как зюзя натянуся», «опять напьюся», «и пьяный в Петербург на пьянство прискачу», «напьюсь свинья свиньею», «с радости пропью прогоны с кошельком». Все эти заявления, граничащие с грубостью, разрушают атмосферу любовной элегии (в одном из списков стихотворение называлось «К невесте»; один из автографов имел заглавие «Разлука»). Но это «решительный вечер» не просто обыкновенного элегического героя-влюбленного. Это «решительный вечер гусара», и этим всё сказано. Он «рубака» и «рубаха-парень» и не боится скрывать свои чувства. Его интонации, живые и непосредственные, передают буйство натуры. Он и на любовном свидании, как в бою. Гусар как определенная концепция поведения сохраняет свою «личностную позу», но не может скрыть человеческое лицо. И анафорическое, троекратное «сегодня» (дважды — «сегодня вечером»), и прорывающиеся сквозь эпатаж живые чувства: «Но если счастие назначено судьбою // Тому, кто целый век со счастьем незнаком, // Тогда... о, и тогда...», и глагольная экспрессия: «полечу», «прискачу», и образ летящей стрелою «ухарской тройки» — всё это тщательно замаскированные подлинные эмоции, боязнь выглядеть сентиментальным и смешным. В созданном почти одновременно «Ответе на вызов написать стихи» поэт-гусар, перебирая все штампы в описании любви, приходит к простому выводу: «Ах, где есть любовь прямая, // Там стихи не говорят!» Он дорожит своей позицией гусара, пытается ей следовать и не может себе позволить расслабиться: «Чтоб при ташке в доломане // Посошок в руке держал // И при грозном барабане // Чтоб минором воспевал».
Выделенное курсивом (а в тексте целая система таких выделений — реминисценций из поэзии сентименталистов) слово контрастирует с обликом и атмосферой «мажорной» жизни гусара. Ирония в поэзии Давыдова и его собратьев по пушкинскому кругу значима прежде всего интонацонно. Она варьирует настроения и зримее выявляет резервы поэтического слова, его возможности в сближении высокого и низкого, поэтического и прозаического. Кроме того, она способствует раскрепощению поэтической речи. Возникает ощущение импровизации, экспромта, разговорности. Вот почему поэты пушкинского круга — мастера эпиграммы, стихов на случай, каламбура, надписей к портрету и записей в альбом. Они создали своеобразную форму «обиходной литературы» (Л.Я. Гинзбург).
Вяземский как острослов здесь вне конкуренции. Его стихотворные миниатюры были на слуху и действительно входили в обиход общества. Как было не запомнить такие его четверостишия:
Кто будет красть стихи твои?
Давно их в Лете утопили;
Иль — их, забывшися, прочли,
Иль — прочитавши позабыли.
Двуличен он! Избави боже!
Напрасно поклепал глупца:
На этой откровенной роже
Нет и единого лица.
И хотя адресаты этих экспромтов-эпиграмм не установлены (возможно, второе адресовано Фаддею Булгарину), они были известны в определенном кругу. Главное же — они входили в обиход поэзии как образцы «школы гармонической точности».
В недрах поэзии пушкинского круга слово, интонация, ритм стиха обретали именно точность смысла и индивидуальность выражения. Они были впаяны в образ своего создателя, в его поэтический портрет. Каждый из поэтов искал «лица необщье выраженье». Гармоническая точность — конкретизация интонации и мироощущения лирического героя и миромоделирование самого поэта в координатах найденного стиля.
План разбора
- Часть речи. Общее значение.
- Морфологические признаки.
- Начальная форма (именительный падеж единственного числа).
- Постоянные признаки: а) собственное или нарицательное, б) одушевлённое или неодушевлённое, в) род, г) склонение.
- Непостоянные признаки: а) падеж, б) число.
- Синтаксическая роль.
Образец разбора
Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны 3
Льёт печально свет она.
(А. Пушкин.)
234 . Определите основную мысль и стиль текста. Первые четыре выделенных слова разберите как часть речи устно, остальные - письменно. Напишите свободный диктант по этому тексту. Назовите виды орфограмм на месте пропусков. Какие буквы вы вставите?
Отечество моё Россия
Дон - легендарная русская река. Она протекает с севера на юг по древним русским землям - Тульской, Воронежской, Ростовской областям - и вп..дает в Азовское море. Дон служил важным т..рговым путём между центральными р..йонами Руси и Приазовьем .
В него вп..дают небольшие речки, по берегам которых расп..ложились многие города и сёла. Самые крупные из них Воронеж , Ростов, Азов. На притоке Дона Непрядве в 1380 году пр..изошла Куликовская битва, пол..жившая начало освобождению Руси от иноземного ига.
Дон связан с другой русской рекой Волгой к..налом. Теперь в ст..лицу нашей родины Москву и из неё на пароходе можно попасть в Азовское море, а из Азовского - в Чёрное.
Дон красив в своём течении . Сначала путь его прол..гает по узкой д..лине с высоким правым и отлогим левым берегами, затем д..лина значительно расширяется.
Славен Дон. Он служил и продолжает служить людям.
235 . Подберите и запишите существительные, обозначающие состояние, настроение, чувства человека (радость, восторг, огорчение и т. д.). Надпишите над ними их род и склонение.
236 . Напишите о том, что вы видели, слышали впервые и что произвело на вас большое впечатление. Подумайте, о чём именно вы будете писать. Озаглавьте своё сочинение. Например, «Первый раз в музее», «Впервые в театре оперы и балета», «Первое знакомство с...» и т. д. Это может быть письмо товарищу, могут быть записи для себя в дневнике, заметки в классную (школьную) стенгазету, рассказ и т. д. Подчеркните имена существительные, обозначающие состояние, настроение, чувство.